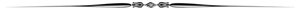В Большой зал Государственной Консерватории, мы едем вечером к 20
часам. Ожидается большой концерт. Беру программу и сразу вижу, что Фурцева
действительно запретила монашескому хору игумена Матфея участвовать в
концерте. В первоначальной программе, которая была нам роздана до начала
концерта хор значился, а теперь его нет. В первом варианте программы стояло:
1. Смешанный хор Матвеева; 2. Мужской(=монашеский) хор игумена Матфея; 3.
Симфонический оркестр дирижера Светланова. Более того, почему- то
«пострадал» и был заменен «Китеж» — Римского-Корсакова, на Чайковского
«1812 год».
Между тем, как стало известно, с регентом Матвеевым произошел
несчастный случай. Когда он возвращался из Лавры, после избрания Патриарха,
его машина столкнулась с другой, в результате Матвеев получил небольшое
сотрясение мозга и регентовать не смог. Его заменил Комаров, бывший регент
Елоховского Патриаршего Собора. На качестве программы исполнения это не
отразилось, говорят, что Комаров как регент выше Матвеева.
Перед началом концерта, я шел по коридорам Консерватории, когда ко мне
подошел священник, он предложил мне программу со словами: «Не хотите ли
программу на духовный концерт?»
— «Духовный? — удивился я. — А что же в нем духовного? Просто –
торжественный концерт».
Лицо священника, иеромонаха из Лавры, выразило недоумение. Но в
следующий момент, он догадался, что я имею в виду, улыбнулся и сказал мне:
«Ах, Вы уже знаете? Действительно, не духовный. Но не огорчайтесь, хор
игумена Матфея Вы услышите в Лавре в воскресенье в трапезе».
Войдя в зал, я встретился с А. Л. Казен-Беком.
— «А Вы знаете, почему программа концерта переменилась? — спросил я
его, — хора игумена Матфея сегодня не будет».
— «Почему?» — удивился он.
— «Да потому что Фурцева запретила!» — сказал я.
Лицо Казен-Бека исказилось гримасой, и он полушепотом, но весьма
энергично выругался по ее адресу.
Усевшийся рядом со мной митрополит Аксумский Мефодий, Александрийской
Патриархии, тоже возмущался отсутствием монашеского хора… и ругал
Фурцеву. Я видел, как вошел в зал Куроедов и занял место в первом ряду
налево от прохода. Концерт можно было начинать.
Мы вернулись в гостиницу уже поздно. Было уже около двенадцати часов
ночи, когда, поужинав, я стал направляться к выходу из зала. За столиком у
самого выхода из зала, сидела компания служащих «иностранного Отдела» –
Кудинкин, Казен-Бек, Буевский, Игнатьев (прибывший на Собор из Болгарии). Я
подошел к ним. Казан-Бек вскочил и начал нервно — возбужденно говорить.
Видно было, что он слегка подвыпил, что с ним, как говорят, случается редко.
Он начал мне горько жаловаться, что его никуда не выпускают за
границу: «Знаете, Владыко, не только в «настоящую заграницу», во Францию или
Америку, но и в «братские» страны. Подал прошение поехать в Югославию.
Отказали! А между тем мне нужно туда поехать для одной церковной
исторической работы, которую я хочу написать. С трудом пустили только раз в
Болгарию, да и то потому, что Патриарх Болгарский потребовал. А другие то
постоянно ездят!»
Он весь кипел от возмущения, а Игнатьев пытался его остановить:
«Успокойся, не говори так много».
Этот Игнатьев, уже пожилой человек, старый эмигрант, живущий в
Болгарии. В прошлом он состоял в партии младороссов, во Франции. Как я потом
узнал, он, пишет в ЖМП церковные статьи, преимущественно о жизни Болгарской
Церкви. Пишет не плохо, но вполне в «лояльном» духе.
Сейчас воспользовавшись моментом, он прошептал мне: «Не думайте, что я
Вам не сочувствую… я вполне согласен с Вашим заявлением на Соборе. Но мы
не можем говорить, а Вы можете! Вот вся разница… и, пожалуйста,
продолжайте говорить и писать».
Кудинкин перебил его и опять, в который раз задал мне вопрос. Он
задавал его мне почти каждый день на протяжении всех этих дней в Москве и
Лавре: «Как Вам нравиться Собор? Какие Ваши впечатления?»
По началу я ему отвечал: «Подождите, Собор еще не начался», — а
потом… «неплохо, удовлетворительно, ничего…». Ему очень хотелось,
чтобы я всецело восхвалял все происходящее на Соборе. Но этого по совести я
не мог делать, а раскрыть ему все, что я думаю, считал не возможным.
Сейчас я ему сказал: «В общем, хорошо…»
В ответ на это Кудинкин разразился патриотической тирадой: «Мы
русские, очень скромны, слишком скромны! Мы спасли Европу от татар, потом
спасли ее от Наполеона, в последнюю войну от Гитлера. Все другие народы
трубили бы об этом по всему миру, хвастались бы,.. а мы замалчиваем или
говорим… «удовлетворительно», «неплохо», «в общем, хорошо». А надо
говорить — «прекрасно»!» Я позавидовал его патриотическому оптимизму.
А относительно Казен-Бека я вспомнил его реплику на Соборе. Он был
переводчиком у Виллебрандса, подходит ко мне и говорит: «Владыко, вот если
посмотреть на собравшийся здесь епископат Русской Церкви, на их лица, то
скажу Вам, слава Богу, благоприятное впечатление. А вот посмотреть на лица
батюшек… уже хуже».