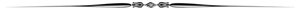Всеволод — мирское имя будущего владыки Василия (Кривошеина), а «Гика» — так его звали в семье.
Все эти дни Всеволод Кривошеин, под видом того, что в университет, уходил с утра из дому и сколько угодно толкался по улицам, и бегал от шашек, и ложился на снег, и в ворота прижимался, — наиспытался и насмотрелся всего, очень интересно, редкие переживания, и почему-то так и тянет на опасность. Верней, понимаешь, что опасность, и надо бы, конечно, бояться, — а страха внутри как-то нет. Только вчера, когда досталось ему бежать в толпе со Знаменской площади под крики «рубят! рубят!» — не сами эти шашки, которых взнесенных он так и не видел, а общая безудержная паника толпы, друг от друга передаваемая рёвом, тиском, сжатием, толканием, — вполне захватила и Всеволода. Но и то был не настоящий страх смерти, вот вдруг перестать жить, а мелькало, что смерть — какая-то бессмысленная, ненужная: непонятно, за что он умирал, убегая в этой толпе. (Но ещё они бежали, как со стороны площади, им в спины, донёсся рёв торжества и ликования — и всё остановилось и стало возвращаться на площадь — и передавали друг другу, что казак убил полицейского конного офицера, а остальная полиция разбежалась. Толпа долго радовалась, и ничего больше не происходило.)
Однако сегодня так просто уйти из дому было нельзя: воскресенье, никакого университета нет. К тому ж вернулся домой и отец — с Западного фронта, где он служил теперь уполномоченным Красного Креста, — чтобы присутствовать в понедельник на сессии Государственного Совета, чьим членом он состоял после отставки с министра земледелия, обычный удел всех, кому позолачивали отставку. Он ехал, ничего не зная о происходящем в Петербурге, — и тем более омрачился по приезде. Сразу вся обстановка в доме сгустилась сильно озабоченная — и младшим мальчикам неприлично стало выказывать оживление или самовольничать.
Из пяти сыновей Кривошеиных двое старших уже были офицерами на фронте. Средний Игорь тоже теперь прапорщик, готовился на фронт. И Всеволод, по-домашнему Гика, хотя студент, всё оставался в младших — с самым младшим, 12-летним, у кого ещё и гувернантка была.
Квартира Кривошеиных, хотя и наёмная, в доходном доме, была сама как замкнутый дом, 15 комнат и ещё подсобные, по двум сторонам коридора, настолько длинного, что мальчики по нему катались на велосипеде. Парадные комнаты, выходящие зеркальными окнами на Сергиевскую, походили даже и на музей — были обставлены старинной богатой мебелью, увешаны мраморными барельефами, множеством старинных картин, не самых знаменитых мастеров, но достаточно ценных, отец много их скупал. Семья жила здесь уже 30 лет. Хотя потом 8 лет подряд отец был министром и мог бы жить на казённой квартире на Мариинской площади, но предпочитал свою: так он избавлялся от необходимости давать официальные обеды и рауты.
Гика сидел за утренним кофе со взрослыми и томился. Он тщетно изобретал предлог, зачем бы ему нужно в город. Но отец сидел до такой степени расстроенный и тёмный, и мать и тётка были строги, как если бы в доме случилось несчастье, — и неловко было что-нибудь сболтнуть.
— Довели, — говорил отец. И ещё потом после большой паузы: — Довели. — И ещё с долгим промежутком: — Кто? Кого набрали? — И ещё потом: — Отгородились от мира, ничего не представляют.
В этом году Александру Васильевичу Кривошеину (отцу) исполнялось шестьдесят, и появилось в нём стариковское.
Послал Гику за газетами — но только до угла Воскресенского, до киоска, и чтоб сразу назад.
Тут, до Воскресенского, было неинтересно, совершенно мирно, обычно. Но и газет таких, настоящих, которые бы отец стал читать, не оказалось ни одной, не вышли, а только черносотенные — «Земщина», «Свет», нечего и брать. Купил «Правительственный Вестник» — там назначения, перемещения, распоряжения, они всегда интересуют отца, — но безо всякого следа происходящих событий, безмятежный.
Отец сидел в углу прямоугольного большого дивана в кабинете, как бы ссунутый в угол, опёрся локтем о валик. И всегда рыхловатый, а тут как бы беспомощный, белолицый, с повисшими, неподстриженными усами, — вот тут впервые понял Гика, насколько же серьёзное творится. Жалко стало отца. Но не было привычки приласкаться.
А отец был поражён, что нет газет, он ждал кипы, заказал полдюжины. Раскрыл «Вестник» сразу — и осматривал хмуро. И опять ворчал:
— Ничего не предпринимают… Три дня не утихает — власти не смотрят… Идём к анархии.
Потом Гика томился у себя в комнате, с окном во двор. Открывал форточку, никаких грозных звуков, ни стрельбы, тихо. Коридорный телефон (у них было два в квартире) звонил часто, и мама, и тётя, и сам Гика, и мадмуазель тоже звонили друзьям, узнавали что где, — но нигде ничего не происходило.
Сергиевская — узкая, но всё же мостовую видно.
Не прошло и получаса, как через форточку различился приближающийся тот же гул многих голосов. Пожилая горничная оттаскивала младших:
— Всеволод Алексаныч! Кирилл Алексаныч! Уйдите, не надо! Не попусти Бог — увидят в окне, выстрелят — убьют. Бунтовщики, от них всего можно ожидать!
А вот и повалила, в сторону Литейного, беспорядочная толпа. Были и штатские, но больше солдаты, однако не только без офицеров, без строя, как странно было видеть солдат, но особенно странно, что все ружья в разном положении: кто на плечо, кто через плечо, кто наперевес, кто под мышкой, торчали штыки вверх, в бока и вниз, — два часа у них было свободы и так уже разошлись приёмы. Солдаты-то были свеженабранные, только переодетые в шинели.
Брат Игорь стоял, кусая губы. От этого вида он страдал уже по-своему, по-офицерски.
В толпе громко, оживлённо, беспорядочно разговаривали: то ли — что уже пробежали, то ли — что им сейчас делать, друг друга окликали и советовали, — вдруг спереди кто-то крикнул сильно:
— Наза-ад! Наза-ад! — вся солдатская толпа кинулась назад, едва не подкалывая друг друга штыками.
И — смело их к Воскресенскому, больше они не появлялись.
Эту сцену отец тоже простоял у окна в гостиной. И сказал размыслительно:
— Революцию — я вижу. Но не вижу контрреволюции.
Действительно: в столице, в налаженном строгом городе два часа буянили солдатские толпы — и никто не появлялся остановить, укротить их.
На улице затем пока ничего не случалось. Но горничная ввела в коридор гостя к отцу — маленького роста, в шубе с богатым воротником, и до круглости набитым портфелем. Сыновья узнали и поздоровались: это был нынешний министр земледелия Риттих, многие годы близкий сотрудник отца.
Горничная помогала ему снять шубу. Потом он снимал галоши, протирал пенсне, причёсывался перед коридорным зеркалом при лампочке: его тёмные волосы, аккуратнейше подстриженные, лежали густым крылом. За это время раскрылась дверь кабинета и вышел отец, протягивая руки одновременно и дружески и укоризненно:
— Алекса-ан Алексаныч! Где же ваше правительство? Что оно смотрит?
Риттих отвечал скромным и даже юным голосом:
— Правительство хочет собраться на Моховой. Но я не уверен, что это принесёт пользу.
— Почему на Моховой? И что же? — почти с негодованием спрашивал Кривошеин.
— Хотел бы я сам это знать! — всё так же юно-виновато ответил Риттих. — Последний звонок ко мне сейчас был — от 7-го класса Пажеского корпуса. Они хотели кинуться в Царское Село на защиту царя и спрашивали, какой полк остался верным, чтобы к нему примкнуть. Я объяснил им, что царя в Царском нет, и группой им не пробраться. А какой полк верен? — знает ли это военный министр? Я, Александр Васильич, нашёл неблагоразумным оставаться дома, и самые важные бумаги ещё с субботы забрал из министерства. Не разрешите вы мне перебыть у вас несколько часов и пока позвонить, узнать?
— Я очень вам рад, Алексан Саныч! Как никому бы.
Отец повёл гостя к себе и отпустил Гику погулять — но только в центре и не больше двух часов. А младшему Кириллу — никуда.
***
После яркого утра с боковыми солнцами свет по небу стал радужный, рассыпанный, как будто расплывался в облачка.
Едва Гика вырвался — сразу пошёл, конечно, к Литейному, а по нему на Невский. Как и вчера, не было трамваев, но не было нигде и ни одного полицейского, ни солдат, — а только висел на домах ещё новый приказ генерала Хабалова, угрожавший оружием. Кое-где висел со вчерашним рядом, кое-где все три, а то полузаклеены один другим или полусорваны.
Так и шло подряд жирно: Хабалов — Хабалов — Хабалов, и ощущалось обидно, что у русского правительства к русскому народу в такие дни — нет другого голоса, нет другой подписи.
Невский заполняла обычная для воскресного дня гуляющая публика, густые реки пешеходов по обоим тротуарам — нарядные дамы, офицеры, студенты, чиновники гражданские, чиновники военные, женщины с детьми и колясками, раненые солдаты, приказчики, прислуга, — но и мастеровые с окраин, явно они, их тут не бывало раньше. Однако все удерживались на тротуарах, и середина проспекта была пуста.
Вдруг — показалась толпа со Знаменской площади — тысяч больше двух, кого там только не было, много студентов, курсисток, интеллигентов в котелках, но более всего — рабочих в простых шапках, работниц в платках, но одетых почище обычного, не будничная чернота, — и к ним ещё доливалось с тротуаров. А в передних рядах несли, высоко держа, два красных знамени: «Долой самодержавие!» и «Долой войну!».
Шествие шло — никто ему не препятствовал, не перегораживал дорогу. Шло медленно, заливая всю мостовую, нигде не встречая пикетов. Оно нагоняло Гику около Аничкова моста, когда он перед ходом его перешёл на ту сторону Невского, к Екатерининскому скверу. И ещё подумал, вслед отцу: до чего ж мы дожили! вот такая толпа идет — во время войны — с такими знамёнами — по Невскому — и никто не мешает. Что это значит?
Как нарочно: промелькнула такая мысль — и вдруг услышал он неизвестно откуда резкие удары, как толчки или как рвали бы большую ткань, — Гика никогда такого близко не слышал, не догадался бы, если бы толпа не стала раскидываться по сторонам, бежать и кричать, что — стреляют. И как давеча на Знаменской, Гика вместе со всеми побежал, не успевши нисколько испугаться. Только уже в беге, видя как испуганы другие, стал и он перенимать испуг или какое-то смутное состояние.
Побежать ему пришлось за укрытие Публичной библиотеки. Здесь стрельба слышна была глуше, и, видимо, пули достать не могли, толпа стояла плотно.
Все хотели знать, что произошло, — но не идти же назад, а отсюда за спинами никому ничего не видно.
Однако постепенно стало по толпе передаваться, что стреляли от Гостиного Двора, остались на Невском убитые и раненые. Серьёзно.
Толпа постепенно рассасывалась — в обход Александринского театра.
Сошлось их тут близко две синих студенческих фуражки: стоял рядом и громко возмущался высокий студент. Он бранил военную власть, бранил самодержавие, потом сказал соседу:
— Коллега, эти негодяи вас напугали. Стреляют по толпе, какая низость, палачи! Уже ничего не стыдятся. Вам, может быть, далеко до дому? Где вы живёте?
Гика назвал.
— Далеко, — сказал тот: — Невского сейчас не перейти.
А между тем толпа быстро рассасывалась, опасаясь чего дальнейшего, как бы и сюда не завернули с выстрелами. Хотя они прекратились.
— Меня зовут Яков, а вас? Пойдёмте пока ко мне на квартиру, я живу тут близко. Там и переждём. Да хоть и ночевать оставайтесь.
— Ну, что вы, ночевать! Мне — надо домой, меня ждут.
Но тронут был этим приглашением, этой вседружественной теплотой студенческой корпорации: как бы ни худо попал — нигде ты не один, а тысячи у тебя друзей.
Пошли через Чернышёв мост. В невыразительном сером переулке невыразительный серый петербургский дом, мрачная лестница с невеселящей клетчатой плиткой на площадках, тёмный коридор, из него двери, большая комната с серым светом внутреннего двора-колодца, удивительно неуютная, до неопрятности, хотя ничего грязного не было, в беспорядке заполненная мебелью, вещами, а посередине — стол, но не обеденный, а с бумагами, книгами, и над ним свисала не горевшая сейчас лампа под бордовым абажуром. И стоял запах накуренного.
Там уже были студент и курсистка. Яков объявил:
— Всеволод. Шимон. Фрида. Вот привёл товарища, а то его чуть не пристрелили на Невском.
Встретили любезно. Но приход постороннего студента утонул в обсуждении происшедшего. Все негодовали, достойных слов не находили бранить царских опричников, хотя были и подавлены.
— Осмелились-таки!
— Я думал — не решатся.
— А Николай Второй, — желчно сказала Фрида, она сидела у окна нога за ногу, — конечно, удрал в Ставку. Всегда, конечно, он подальше от ответственности.
— Но никуда он от неё не уйдёт! — блеснул Шимон. — Войска не могли стрелять сами. Был дан приказ, и приказ этот, через царского холуя — его личный. И ему это запомнится.
— Но чего стоит наша жалкая толпа! — сжигалась Фрида у окна, колена с колена не снимая. — Стоило дать несколько выстрелов, чтобы все разбежались.
— Да, но завтра может начаться снова! — пообещал Яков.
— Не-ет, не-ет! — замахала руками Фрида с каким-то даже злостным удовольствием против самой себя. — Всё-о! Движение — подавлено! Завтра — уже никто не выйдет на улицу.
Тут пришли ещё два студента и с ними курсистка. И обсуждение пошло во много голосов сразу: подавлено или не подавлено?
Склонялись больше, что — подавлено. И не надо было начинать, а помнить, что народ неспособен к настоящей революции. Теперь изо всей ситуации самодержавие выйдет только более окрепшим.
Гика почти не говорил, сидел в неловкости: весь тон высказываний был непривычен ему, резал слух и сердце. И он уже понял, что они догадались, что он — белоподкладочник, хотя ни в чём внешнем это не выражалось. Да и взаправду он ощутил себя белоподкладочником: было ему тут чужо, неприятно. Эта комната, эта обстановка так разительно отличалась от их домашней — даже не на улицу захотелось, тоже суматошную, а к себе, в покойное «дома». А самое неловкое было бы, если бы сейчас спросили его фамилию: соврать он не мог, да не унизился бы лгать, но и произнести здесь фамилию хоть и либерального, но царского министра, да ещё столыпинского сподвижника, — было невозможно. (А два часа уже прошло, что там отец? Не говорить, что попал под стрельбу). Гика досиживал как-нибудь ещё, до приличия, и вскоре бы уйти (Может быть ещё и потому Яков его сюда привёл, что за еврея? Гику и самого старшего брата частенько принимали).
Непрерывно курили, дым уже повисал.
Скорей домой, и отдышаться, вернуться в привычное.
Вошли ещё двое — и с порога объявили, что на Невском ранили Юльку Копельмана, и сейчас увезли в автомобиле.
Это — разорвалось! Все вскочили, загудели. Это был случай уже живой, он задевал больше, чем общие сожаления. Ещё — живой ли? Ещё останется ли жить? Настроение стало грозней и злей, но и унылей.
Как меняются события! — вчера и сегодня казалось, что жалкий позорный режим проваливается в тартарары, совсем ослаб и беспомощен. А вот — в нескольких местах постреляют, и он может надолго снова укрепиться — и ещё долго будет длиться его зловонное существование!
— До каких пор ему гулять на свободе? — говорили о царе.
Кто-то стал рассказывать о некоем Грише:
— Знаете, такой маменькин сынок, сионист? Говорит мне: «Нас, евреев, здешняя революция не касается, это пусть русские занимаются». Вот мерзавец, или, скажете, нет?
Загудели против этого Гриши и против сионистов: это настоящие предатели общего дела, только ищут, как уклониться от революционной борьбы.
Тут вошёл молодой прапорщик — красивый, стройный, с гордой осанкой, не по-офицерски безусый, гладко выбрит.
Все его, видимо, знали, шумно закричали:
— Саша, что же это делается?
— Ленартович, вы же офицер! На вас падает пятно! Что ж вы теперь — вместо казаков?!
Роста выше среднего, ещё и держась подтянуто, он стоял на пустом придверном пространстве один, всем видный во весь рост, ещё сняв фуражку и открыв густой пышноватый русый зачёс назад.
Он не сразу ответил, и за это время все замолчали. В тишине сказал торжественно и вызывая веру:
— Можете быть спокойны. Этого дня мы им так же не простим. Как и Девятое января.