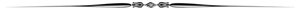Меня поймали, арестовали,
Велели паспорт показать
«Я не кадетский, я не советский,
Я петушиный комиссар»
Песенка эпохи гражданской войны
Утром наш поезд прибыл во Льгов. Имеются три Льгова: Льгов 1, Льгов 2 и Льгов 3. Вылезать нужно в третьем, именно отсюда идёт железная дорога на Коренево-Киев, здесь же главный вокзал. В первую мою поездку я так и сделал, а сейчас ошибся и вылез преждевременно во Льгове 1. Выяснилось, что до третьего Льгова мне придётся добираться 3 версты и никакого поезда туда не идёт. Приходилось только идти пешком и я подумал, как хорошо, что со мной нет моих вещей. Итак, я пошёл по дороге, проходящей недалеко от железнодорожного полотна, но тут возникло неожиданное препятствие. Впереди была небольшая канава, и дорога переходила через неё по небольшому мостику. Я подошёл к нему и думал его перейти, но меня остановил стоящий у моста часовой красноармеец, высокий блондин с русским лицом. « Пароль» — скомандовал он мне. Я стал объяснять, что по ошибке вылез слишком рано, что мне нужен Льгов 3, что я командирован и т. д. «Пароль!» — опять приказал часовой, и так как я ничего не отвечал, он заявил: «Не могу пустить. Приказ», — и перестал со мной разговаривать. Что было делать? Немного подумав, я отошёл влево саженей на пятьдесят и на виду у часового перепрыгнул через канаву. Я боялся, что часовой меня остановит, но он не обратил на меня никакого внимания. Это был совершенно безразличный ко всему мобилизованный в красную армию парень, исполняющий приказы, но не желающий что-либо делать. Красноармеец-большевик так бы не поступил.
Я зашагал дальше и скоро достиг вокзала Льгова 3. По долетающих до меня обрывков фраз красноармейцев и железнодорожников я сообразил, что на фронте произошла важная перемена. Белые наступают! (10) Напряжённость и тревога чувствовалась в воздухе. Однако поезд на Коренево отходил, как обычно. Я сел в него, не зайдя, конечно, к «товарищу Кану», у которого четыре дня тому назад брал разрешение. Мне не хотелось снова попадаться ему на глаза, а в случае чего я покажу контролю свой старый пропуск. Опять влез в открытую теплушку поезда. Народу было немного: обычные деревенские бабы. Из пассажиров выделялись молодой красноармеец и более пожилой толстый военный, типа прежнего унтер-офицера. В настоящее время он был если не чекист, то во всяком случае имеющий отношение к тому или иному виду «красной жандармерии», а может и к органам безопасности, как сейчас говорят. Тронулись около одиннадцати часов дня. Погода прояснилась, и опять был солнечный, и даже жаркий осенний день. Около часа дня, мы уже были не далеко от Коренева, как вдруг слева, к югу от железной дороги, послышать глухие раскаты артиллерийской стрельбы. Стреляли в верстах десяти-пятнадцати от нас, и канонада не прекращалась довольно долго. Эти звуки, которые я слышал впервые, наполнили моё сердце глубокой радостью, окрылили надеждой: фронт близко, белые наступают, избавление близко! Но одновременно было и тревожно и страшновато. На красноармейца и на красного «унтера» стрельба произвела сильнейшее впечатление, они оба как-то съёжились, на лицах отразилась тревога. Между собой, они стали быстро и горячо обсуждать происходящее, говорили: «Вот белые опять наступают, всё не угомонятся, а у нас всё плохо организовано, да всюду измены», или как «унтер» выразился — «продажа». Надо сказать, что он особенно подозрительно и враждебно смотрел в мою сторону.
Через час мы приехали в Коренево. Стрельба к тому времени прекратилась. Станция Коренево была забита товарными составами, стоящими на запасных путях. Вот, уже готовятся к эвакуации, подумал я. На самой станции было довольно много красноармейцев. У меня сразу возник план действий: никуда не идти, никакой фронт не переходить, а ждать здесь, в Кореново, прихода белых. По всей вероятности, они придут сюда через два-три дня, а ночевать можно будет в пустых теплушках, их на путях было множество. В случае контроля, я мог показать документы, но самому нигде не заявляться, хоть это было и против установленных правил в прифронтовой полосе. Самая большая проблема — как питаться? Ну да ничего, если не сумею найти еду, поголодаю несколько дней. Во всём этом было много риска, могут арестовать как подозрительного и неизвестно что делающего в Кореневе, но пока это был меньший риск, чем переход фронта (11).
От нечего делать и чтобы не мозолить глаза своим присутствием, выхожу походить в местечко, потом возвращаюсь на станцию, пью из имеющейся у меня кружки кипяток из куба. Он ещё не закипел, и меня предупреждают: «Не пей, заболеешь!» Но я не обращаю на это внимания и не заболеваю. Кто-то даёт мне кусок хлеба, но в общем на меня никто не обращает особенного внимания.
Часам к четырём дня опять перемена обстановки: вновь южнее Коренева слышна канонада и даже как будто ближе, чем утром. Впечатление, что стреляют из тяжёлых орудий. На станции у красных «товарищей» тревога. Среди них группа человек 30-50 так называемых «красных кубанцев». О них в моём рассказе будет много сказано впереди, сейчас ограничусь только тем, что отмечу, что эта была отборная конная часть Красной армии, единственная по- настоящему сражавшаяся и на которой, как говорили, держался фронт. Собственно говоря, настоящих кубанцев в этой Красной Кубанской бригаде было немного, большинство было из Харьковской и полтавской губерний. Это были настоящие разбойники, от зверств и насилий которых страдало и стонало всё население. Среди них, несомненно, было большое число преступных элементов. Они резко отличались от обычных мобилизованных красноармейцев, часто добродушных, деревенских парней и совсем не большевиков (12). Но об этом в дальнейшем. а пока «кубанцы» собрались в кучку на перроне станции, возбуждённо обсуждали положение, а я старался прислушиваться к их разговорам. Конечно, они сопровождались грубейшей кощунственной матерной руганью. «Из тяжёлых орудий стреляют! Это пострашнее Господа Бога гремит». С разгорячёнными и вместе с тем тревожными лицами говорили они друг другу, вернее кричали: «Говорят, белые в Севастополе двенадцатидюймовые орудия с военных судов поснимали и отправили на фронт… А наши то всё бегут, не могут их остановить. Кругом всюду продажа». «Да, — говорит другой, — белые сражаются здорово, ничего не скажешь. Только их мало. Если бы наши сражались так как они, мы бы их давно разбили». Мне было приятно слышать такие разговоры. (13)
С наступлением темноты стрельба прекратилась. «Кубанцы» тоже куда-то исчезли. Я вошёл в здание станции и сел в бывшем буфетном зале на одну из скамеек. Скоро зал наполнился новоприбывшими, человек около ста пятидесяти. Это были только что мобилизованные Красными окрестные жители, в большинстве крестьяне. Одеты были в свою одежду, в руках узелки с вещами. Все они явились по призыву и их отправляли куда-то дальше. Один из них подсел ко мне и стал рассказывать, что в германскую войну он был призван и служил в поезде-бане. У него есть о том документы, которые он мне хотел показать и просил помочь устроиться и теперь в поезде-бане, так как хорошо знает это дело. Наверное, он меня принял за большевицкого начальника. Я сказал ему, что ничем не могу помочь, а про себя подумал, «что сидел бы ты дома, чего ты явился на большевицкую мобилизацию, а теперь будет тебе здесь такая баня, что не возрадуешься». А вообще, мне было горько, что столько простого народа откликнулось на мобилизацию в Красную армию и какие все они смирные и покорные. Чтобы избежать дальнейших разговоров, я вышел из здания станции и пошёл искать в уже наступившей темноте место для ночлега в одной из теплушек. Нужно было отыскать место подальше от станции, в глубине запасных путей. Я нашёл, без особого труда подходящую теплушку в одном из многочисленных товарных составов, взобрался в неё, закрыл за собою дверь и лёг спать на солому. Было жарко, я снял с себя гимнастёрку и крепко заснул до утра.
Проснулся, когда было уже вполне светло. Свет проникал в вагон через не вполне закрытую дверь. Начинался день 2/15 сентября. Почти машинально и как бы по-привычке я засунул руку в правый внутренний карман моей гимнастёрки, где у меня лежал бумажник с документами. Говорю «по-привычке», так как часто проверял, лежит ли он на своём месте, и мне было приятно перечитывать мои документы. Меня это чтение утешало и создавало чувство безопасности. К моему удивлению, карман оказался пустым! Бумажник с документами куда-то исчез! Я подумал, что, вероятно, он выпал из гимнастёрки, когда я клал её под голову. Начал шарить в изголовье, но и там ничего не было. Что такое, не может быть, бумажник не мог пропасть! Вечером, когда я ложился спать, он был со мною, я это ясно помню, из вагона я не выходил. Ужас стал овладевал мною. Я начал упорные поиски. Десятки раз пересматривал свои карманы, шарил место, где я лежал, обыскал всю теплушку. Ничего нигде не нашёл! Меня охватывало отчаяние, но разум восставал: не может быть, ты не выходил, да и как можно было украсть бумажник, который я носил на себе, я бы проснулся. Нет, он не мог пропасть, надо искать!
И я вновь начал искать. Опять осмотрел теплушку, вылез из неё, осмотрел всё вокруг, заглянул под неё, хотя это был полный абсурд. В десяти саженях от вагона была яма, я заглянул на её дно, хотя это было совсем глупо. Как мог попасть туда бумажник, раз я не выходил из вагона. Поблизости что-то делали двое мужчин железнодорожников. Спросил их, не видели ли они моего бумажника, я его потерял. Они посмотрели на меня с удивлением и я снова вернулся в теплушку. Более часа я продолжал безуспешные поиски и как это ни абсурдно и невероятно, но надо было признать, что бумажник со всеми документами исчез. Нужно было немедленно что-то делать, ведь все мои планы от этой пропажи менялись. Самый благоразумный выход: пойти на станцию и заявить железнодорожному ЧК, что у меня пропали документы. В таком случае, мне ничего бы не угрожало, вероятнее всего меня бы задержали и отправили бы в тыл, для выяснения личности. Если бы не докопались до правды, кто я на самом деле и каковы мои намерения, то вероятнее всего отпустили. Но всё это означало капитулировать перед самим собой, отказаться от моего плана перехода фронта, да к тому же, когда я был так близко у цели. Да ещё по такой глупой причине: пропали документы! Какой позор!
Оставаться в Коренево и ждать белых, без документов, тоже невозможно. Белые могли прийти через несколько дней, а за это время меня сто раз могли попросить предъявить документы и мне придётся плохо. Оставался один (по совести) правильный выход: немедленно пешком пойти от Коренева по направлению к фронту и попытаться перейти его. Это был шаг на грани безумия, но иного выхода я не видел. Уже позже, на основании опыта, я понял, что было бы благоразумнее дождаться в Коренево темноты, спрятавшись в вагонах и потом уже ночью пробирать к линии фронта. Хотя и здесь был свой риск, не так просто было выбраться из этого Коренева даже ночью, на каждом шагу были патрули и было запрещено выходить на улицу. Я не мог больше оставаться в бездействии. Не хватало нервов.
Итак около полудня я вышел из Коренева. Пройдя благополучно весь городок с его домиками, садиками и плетнями, я двинулся дальше по дороге в юго- западном направлении на большое село Снагость, откуда вчера была слышна артиллерийская стрельба наших войск. День выдался солнечный и жаркий. Я сознавал, как опасно идти по открытой дороге без всяких документов, да ещё по направлению к фронту. По дороге мне попался красноармеец на подводе, он ехал в Суджу, (дорога туда ответвлялась от дороги на Снагость) и он предложил подвести меня. Я отказался, сказав, что мне не по пути. Мне не хотелось с ним связываться, хотя он был весёлым и открытым парнем, да к тому же принимал меня за своего. Часам к двум дня я подошёл к селу Снагость Рыльского уезда Курской губернии в 12 верстах от Коренева. Я прошёл длиннейшую деревенскую улицу и почти никого не встретил. Эта улица за рядом домов, упиралась в другую поперечную, на которой было тоже много домов. Тут, из далека, я увидел, что у одного из домов, сидели и стояли в группе люди. Я близорук, по дороге у меня сломались очки, и я не мог хорошо рассмотреть, что это за народ чернеется вдалеке. Почти дойдя до них, я повернул по улице налево, причем, стараясь не смотреть в сторону этой группы. Я руководствовался «страусовым инстинктом»: если я не смотрю, то и меня не видят. Они пропустили меня пройти, завернуть налево и тут один из них крикнул мне в вдогонку: «Эй, товарищ, постой!» Я остановился. «Куда идёшь?» — «В Глушково». — ответил я. Так называлось следующее большое село и станция железной дороги, ещё более к юго-западу. Я это точно знал по моей карте, которая по счастью осталась у меня в кармане, а потому не пропала. «Ах, в Глушково? — многозначительно протянул красный. — А ты знаешь, что там в Глушкове?» «Нет»,- ответил я. Очевидно, он знал, что там белые и линия фронта (14). «Ну а зачем ты идёшь в Глушково?» — продолжал настаивать красный. «За солью иду, — отвечал я,- Но если туда нельзя, я не пойду». Я сказал «за солью», так как знал, что многие ездили туда именно за солью, а говорить им о моей командировке, не имея при себе документов, было нелепо. Да и для простых людей поездка за солью более понятна, чем какая-то командировка. «За солью. Вот как! — не унимался красный. — А документы у тебя есть?» «Есть», — уверенно ответил я, хотя знал, что у меня их нет. «А ну-ка покажи!» С какой-то последней надеждой, что бумажник окажется на своём месте я засунул руку в карман гимнастёрки… Но, конечно там ничего не было. «Я их потерял»,- вынужден был я признаться и глупо улыбнулся. «Потерял! — воскликнул красный боец. — Ну-ка, иди с нами!» И вся орава потащила меня в дом, где начался допрос.
Это были именно те «красные кубанцы», часть которых я видел накануне на станции Коренево, сейчас их было человек тридцать. Они были крайне возбуждены моим задержанием, а некоторые в бешенстве «Ты деникинец, — кричали они, — ты офицер, ты шпион, мы тебя расстреляем!» Я защищался, как мог. «Какой я офицер, мне всего 19 лет». — «А почём мы знаем, что тебе 19 лет? А может быть 26?!» — «Да я тебя знаю, ты сын помещика из Лебедина!» — кричал другой. «Да я в жизни в Лебедино не был», — возражал я. «Я уже вчера тебя заметил на станции и подумал: вот это деникинец!» — «Почему же тогда ты не попросил у меня документы? Что там это другим поручено?» — «Я видел издали, как ты шёл по улице, — кричал на меня другой, — и сказал: смотрите, вот деникинец идёт!» Одним из самых главных аргументов, что я действительно шпион, была найденная при мне карта. Раз карта, то уж точно шпион, чего тут рассуждать, всё ясно. Как я не пытался возражать, и говорить, что мои документы пропали или их просто украли, ничего не помогало. «Ну, а на что тебе карта, раз ты не шпион и едешь в командировку?» — резонно говорили они. Напрасно я возражал, что карта у меня новая, по советской орфографии, купленная в Дмитриево, чтобы случайно не попасть к Белым. Они ничему не верили, да и мои доводы были не убедительны или не доходили до их сознания и умственного уровня. Хоть я и говорил, что для этой командировки мне выдал пропуск ЧК, на них это не действовало. Спорить с ними было совершенно бесполезно, и я сказал: «Коль в моём деле вы разобраться не можете, отправьте меня в тыл. Там поймут кто я шпион или командированный. А с вами я разговаривать не желаю!» Я это сказал, чтобы избавиться от этих взбешённых людей и показать, что я не боюсь настоящего расследования. Эффект получился совершенно обратный. Новый взрыв бешенства. Высокий «мордастый» казак с красными лампасами на штанах, ударил кулаком по столу и заорал: «Ну, вот теперь мы точно видим, что ты деникинец. Это они с нами не хотят разговаривать! Сейчас мы тебя и хлопнем!» Дело принимало дурной оборот.
Не знаю, чем бы это всё закончилось, но тут случилось неожиданное и странное обстоятельство. Меня спросили, если у меня деньги. Я мог их скрыть и они не нашли бы их, так как тётушка зашила их в подтяжки. Но я подумал, что если они найдут их сами, то будет ещё хуже: зачем я их скрывал? Поэтому я признался, что около двух тысяч, зашиты в подтяжках. Я снял гимнастёрку, через голову, а они сорвали мои подтяжки и тут же вспороли их. Кинулись считать деньги и опять злые реплики: «Вишь, керенки набрал. Всё ясно, видно по всему, что к Белым драпануть собрался. А от нас деньги хотел скрыть!» — «Да я ведь сам о них сказал». — «А ты думаешь мы бы не нашли? — нагло смеялись кубанцы, — Знаешь, сколько мы из каблуков золотых монет выскабливаем!» Я стал вновь надевать мою гимнастёрку, и вдруг из неё выскакивает мой злосчастный бумажник… и падает на пол!
Тут я сразу понял, что произошло. Когда в вагоне, под утро я надевал гимнастёрку, прослужившую мне ночью подушкой, бумажник выпал из бокового внутреннего кармана и каким-то странным образом попала под гимнастёрку мне на спину. Я его не почувствовал, так как гимнастёрка была узкая, то бумажник, который был не большой и мягкий плотно держался и не падал. Тут я вспомнил, как я панически искал его повсюду, но мне и в голову не приходило снять гимнастёрку. И вот теперь он появляется в нужный момент и спасает меня. «Вот мои документы», — говорю я и протягиваю бумажник. Красные с жадностью кидаются на них и читают. К сожалению, они малограмотные и плохо в них разбираются, но впечатление большое. Мои слова о командировке, пропуске ЧК и прочие рассказы подтверждаются. Видно было по всему, что у «красных кубанцев» произошло разделение. Одни продолжают кричать: «Спрятал документы! Ты хотел нас обмануть!» «Да почему же спрятал? И с какой целью?» — говорю я. Один из них хочет сорвать с моей руки часы, но другой красный его останавливает: «Нельзя, отдай! Троцкий издал приказ не убивать пленных и не отбирать от них вещей». Часы остаются на моей руке. Но почему-то в этот момент, «мордастый кубанец» манит меня на улицу, где стоит запряжённая лошадью линейка, и говорит мне: «Проедемся!» «Ну, что же проедемся», — отвечаю я с какой-то бровадой, чтобы показать, что ничего не боюсь. Но другой боец останавливает меня: «Что ты, — говорит он мне тихо, — он тебе на болоте голову отрубит, это ему ничего не стоит. Не в первый раз уже!» А на мордастого кричит: «Пошёл вон! Нечего тебе тут делать!» Тот действительно куда-то исчезает, уезжает на своей линейке. Во время моего допроса, в самый неожиданный момент, появляется председатель Снагостского волостного совета Кирилл Дюбин. Это мужчина лет сорока пяти, высокого роста, с короткой бородой, в высоких сапогах, с ним рядом два милиционера из местного участка. Присутствие Дюбина и милиционеров действует на «кубанцев» сдерживающе. С другой стороны они торопятся, они и так потеряли со мной много времени, у них приказ куда—то спешно уезжать. Видимо они рады передать меня со всеми документами и отобранными деньгами Дюбину и его помощникам, а сами уезжают. Я обращаюсь к Дюбину и говорю: «Они хотели меня убить». «Не бойтесь, — отвечает он, — они уехали, а милиция Вас не тронет». — «А что будет дальше?» — «Пошлют на расследование». Милиционер уводит меня. Проходим мимо сельской церкви. Огромное для села здание белого цвета в стиле ампир(15) Мне хочется перекреститься, но я не решаюсь, как бы этим не выдать кто я такой. В это время с юго-запада опять раздаётся канонада, она короткая, гораздо ближе, чем вчера и первая за сегодняшний день. Мне показалось, что в верстах пяти. У милиционеров встревоженные лица. «Видите, какое положение. Неудивительно, что вас арестовали», — говорит он. Скоро мы приходим в помещение волостной милиции.
Примечания
- И действительно, за два дня до этого, 30 августа, Добровольческая армия начала своё последнее большое наступление на Москву, завершившееся через месяц взятием Орла. Дроздовская дивизия, наступая на Рыльск и Дмитриев, занял 3 сентября Суджу и 7 сентября Льгов. См.: Вл. Кравченко, «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи» Т. I., Мюнхен, 1973. стр. 281.
- На самом деле белые пришли в Коренево только через четыре дня. Ожидать так долго на станции было бы очень опасно. На меня могли обратить внимание.
- В моих воспоминаниях я пишу о «красных кубанцах» только то, что видел и слышал сам в 1919 году. Это мои непосредственные наблюдения. Но хочу добавить некоторые исторические подробности: Существовал отряд, впоследствии «Бригада червонного казачества» — это было их официальное название, хотя население прифронтовой полосы называло их «красными кубанцами». (Название «червонные казаки» лично я тогда не встречал) — был сформирован осенью 1918 года кубанским есаулом В. М. Примаковым и сражался сначала против Петлюры. Летом 1919 года он был брошен против Деникина и вёл бои под Черниговым. С сентября включён в качестве бригады в состав 14-ой и одно время 13-ой советской армии (командующие Егоров, Уборевич, Гиттис) в районе Коренево-Рыльск-Дмитриев-Дмитровск. Сам Примаков был авантюрист и » смышлёный мужик«, по отзывам знавших его лично, «герой гражданской войны», как называет его 2-ое изд. БСЭ. В тридцатые годы в чине корпусного командира был помощником командующего Ленинградским военным округом, оттуда послан на разведывательную работу в гитлеровскую Германию и, как почти все красные командиры Южного фронта, расстрелян 12 июня 1937 года по приказу Сталина вместе с Тухачевским, Уборевичем, Якиром. Примаков был в это время женат на Лиле Брик. Советская печать эпохи Гражданской войны восхваляла «героические подвиги» «красных кубанцев». См., например, в «Правде» от 22 ноября 1919 года статью некой Раисы Аварх «Безумству храбрых пою я песнь!», где она пишет: «Тихо (?), незаметно(!) делают они великое дело освобождения народа». Генерал А. В. Туркул отзывается о них по-другому: «Мы ненавидели Червонную дивизию смертельно. Мы её ненавидели не за то, что она ходила по нашим тылам, что разметала недавно наш Второй полк, но за то, что червонные обманывали мирное население: чтобы обнаружить противников советчины, червонные, каторжная сволочь, надевали наши погоны… Мы ненавидели «червонных». Им от нас, как и нам от них, не было пощады» (А. В. Туркул, «Дроздовцы в огне». Картины гражданской войны 1918-1920гг. в литературной обработке Ивана Лукаша. 2-ое издание. Мюнхен, 1948 г. стр. 119-120). Читатель может увидеть из дальнейших страниц моих воспоминаний, что не только население прифронтовой полосы, но и многие мобилизованные красноармейцы ненавидели их не меньше и обзывали «хулиганами», «разбойниками и зверьми». Нужно признать, что Червонной бригаде «товарища Примакова», принадлежит решающая роль, наряду с латышами, в перемене боевой обстановки в пользу красных во время осенних боёв против Дроздовской дивизии на Брянском, а затем и на льговском направлении. За эти бои Примаков был награждён 13/26 ноября орденом Красного Знамени.
- Боевые качества и заслуги Добровольческой армии не могут отрицать советские историки: «В боевом отношении некоторые части и соединения Добровольческой армии обладали сравнительно высокими боевыми качествами, так как в её составе было большое количество офицеров, фанатично ненавидящих советскую власть, но с лета 1919 года её боеспособность снизилась в связи с большими потерями и включением в состав Добровольческой армии мобилизованных крестьян и даже пленных красноармейцев». («Деникинщина» в БСЭ, 3-е изд.) Лично я хочу уточнить, что выражение «с лета 1919 года» неточно. Я бы сказал: с октября. Это видно из высказываний «красных кубанцев», имевших место в начале сентября.
- Действительно, как раз в это время станция Глушково была занята батальоном 3-го Корниловского полка при поддержке двух бронепоездов. Слышанная накануне на ст. Коренево стрельба из тяжёлых орудий велась, очевидно, этими бронепоездами. (см. Левитов, «Корниловский ударный полк», Париж, 1974 г. стр. 317).
- Снагость — большое старинное имение князей Барятинских, дарованное им за то, что в XVII веке один из их предков разбил Стеньку Разина. А другой Барятинский был в XIX веке наместником Кавказа. Барятинские и построили снагостскую церковь. Всё это я узнал гораздо позже, а тогда ни о каком имении не слыхал. Никого ни о чём не расспрашивал, да и не до того было.