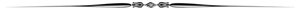Хохочут дьяволы на страже,
И алебарды их — в крови.
В. Я. Брюсов
Снагостская волостная милиция помещалась в большом крестьянском доме. Мы вошли в обширную комнату, и милиционер, ни о чём меня не спрашивая, сел за стол и стал составлять протокол о моём аресте. Я тоже сел на стул. Видно было, что милиционеру по его неграмотности было трудно составлять протокол. Он долго трудился, наконец, закончил и предложил его мне для ознакомления и подписи. Вот его краткое содержание (опускаю многочисленные ошибки): «15 сентября 1919 года в 3 часа дня был задержан по подозрению в шпионстве в селе Снагость красноармейцами первого Красного кубанского полка Всеволод Александрович Кривошеев и передан Снагостской волостной милиции с найденными на нём документами и деньгами для расследования». Против такого содержания протокола возражать было трудно. Скажу более: вероятно, по неразвитости милиционера, протокол был составлен в выгодном для меня духе. Так, там было опущено, что я был задержан не просто в Снагости, как было написано в протоколе, а когда я шёл из Снагости в Глушково, то есть к самому фронту. Причина ареста, в этом протоколе не была конкретизирована и выражалась крайне не определённо как «подозрение в шпионаже». О потере и находке документов ничего не отмечалось, а от этого впечатление о необоснованности ареста ещё усиливалось. О том, что «я шёл за солью», тоже ничего не сказано. Я подписал протокол. Думаю, что от пережитых волнений, мне вдруг захотелось пить. Впрочем, я с утра ничего не ел и не пил. Я попросил милиционера, не могу ли я выпить стакан воды. Он кликнул хозяйку дома, хохлушку лет тридцати, и сказал ей, чтобы она мне дала напиться. Женщина позвала меня в большие открытые сени, настолько далеко, что милиционер не мог слышать нас. Она вынесла мне кувшин с холодным молоком и с сочувствием и сожалением в голосе сказала: «Как это Вы, паныч, попались?» Я был растроган и произнёс: «Ничего, ничего, ещё может и обойдётся». Хохлушка скептически и грустно покачала головой и произнесла тихо: «От них не так-то легко уйти». Напившись вдоволь молока, я вернулся к милиционеру, который вскоре повёл меня в волостную каталажку, недалеко от здания милиции.
Это была небольшая продолговатая полуподвальная камера, оставшаяся в наследство от «старого режима», с каменным полом, без всякой мебели с одной дверью и небольшим окном в ней на узкой стороне камеры. Оконце было без стекла и перегорожено накрест железными брусьями. Возможно, что в прежнее время в этой камере протрезвляли пьяниц. Уже начинало темнеть, когда меня туда привели, потом заперли в ней на ночь и поставили охранять мужика в тулупе, с топором за поясом вместо ружья. Через некоторое время принесли для меня кусок чёрного хлеба и воды. Всю эту снедь мужик просунул мне сквозь оконце. Я попытался заговорить с ним, но он ничего не отвечал. «Эх, ты! — сказал я ему. — И говорить боишься!» Очевидно, ему так сказали. Ничего другого не оставалось, как лечь на каменный пол и спать. Было холодно, но от усталости я быстро и крепко заснул.
Когда я проснулся, было уже светло. Опять солнечный хороший день. Часам к восьми милиционер пришёл за мною. Меня посадили на линейку, впереди кучер, позади милиционер с винтовкой, я посередине. Привезли в Кореново, где сдали Кореневской волостной милиции. Поместили в одной из внутренних комнат дома скорее городского типа. В прежнее время это был особняк состоятельного человека, жителя этой местности, а теперь реквизирован под управление милиции. Открытая дверь комнаты выходила в коридор, никакой охраны не было видно. У меня мелькнула мысль: бежать! Но это было слишком рискованно. Не известно, куда вёл коридор, а у выхода из дома стоял, наверняка, часовой. Может быть, и не стоит так рисковать, подумал я, ведь после находки моих документов моё положение не было безнадёжным. Через два-три часа меня опять вывели и под охраной красноармейца, с винтовкой посадили в открытую теплушку узкоколейки Коренево-Рыльск. Хочу уточнить, что от Коренева, кроме большой железной дороги на Киев и Курск, в западном и восточном направлении идёт ещё небольшая узкоколейная дорога. Она тридцать вёрст длины в северном направлении до уездного города Курской губернии Рыльска. Вот по ней мы и поехали.
Красноармеец, с винтовкой за плечом, сел на краю открытой двери теплушки, свесив обе ноги снаружи и, казалось, рассматривал пейзаж. Опять приходит мысль: столкнуть бы красноармейца в спину с поезда и потом бежать. Но нет, это невозможно. Во-первых, я на такой поступок не способен, не решусь, и не сумею столкнуть, а потом, куда бежать без документов? (Они были у красноармейца.) Через полтора часа прибываем в Рыльск. На этот раз меня ведут к большому городскому каменному зданию. В нём полно народу. Что там помещается, точно не понял, вероятно, комендантское управление города Рыльска.
Через толпу меня проводят в отдельную комнату. За столом сидит какой-то большевицкий начальник. Волосы взъерошены, расстегнут воротник рубашки, вид полусумасшедшего. Перед ним стоит в развалку другой военный. Как выясняется, он просит дать ему отпуск, так как у него тяжело заболела мать. Большевик кричит на него и, жестикулируя, ораторствует: «Что такое мать? Ты должен служить революции, всё оставить, всем пожертвовать. Пусть умирает! Революция важнее всего!» Военный смотрит на начальника с презрительно- иронической улыбкой, почти как на помешанного, и сквозь зубы говорит: «Как это так, пожертвовать матерью? Что значит, пусть умирает? Да никогда в жизни!» Спор между ними продолжается. Один истошно, истерически кричит, другой спокойно и с насмешкой отвечает, наконец, начальник, заметив наше присутствие, берёт у конвоира бумаги и просматривает их.
«Дело о шпионстве! — восклицает он. — Вот это да! Ха, ха, ха!» Он громко смеётся: «Хорошее занятие, нечего сказать! Поздравляю!» «Совсем не шпионство», — возражаю я. «А, что же тогда?» — «Да, вот я поехал за солью…» начал я свой рассказ. «За солью, дико закричал сумасшедший, — так значит, спекуляция!? А это совсем плохо. Значит ты или шпион, или спекулянт?» Я знаю, что обвинение в спекуляции легче, чем в шпионаже, а поэтому продолжаю говорить о «соли». Начальник подписывает какую то бумагу и передаёт конвоиру. Тут я решил обратиться к начальнику: «Я со вчерашнего дня ничего не ел. Нельзя ли у вас получить немного хлеба?» «Нет у меня никакого хлеба!» — отрезает начальник. Меня выводят в соседнюю большую комнату. Ждём в толпе некоторое время. Какой то красноармеец (вероятно он слышал мой разговор с начальником) манит меня пальцем, и я иду вслед за ним в пустую соседнюю небольшую комнату. Там он неожиданно для меня, достаёт из мешка большую буханку хлеба и отрезает огромный кусок: «Вот возьми себе. Только никому не говори, за это строго наказывают». Искренне благодарю его. Кто он? Просто добрый человек или втайне сочувствующий белым? (может он догадался кто я)
Прошло около сорока минут и меня повели по городу в Рыльскую уездную милицию. Большое каменное здание тюремного типа. Очевидно, там до революции была полиция. Меня помещают одного в довольно обширную камеру. Маленькое окошко наверху. За ним решётка, и так глубоко в оконный проход толстой стены заделана, что рукой не достанешь. По всему видно «старорежимная» каталажка, большевики так солидно не умеют строить. Не помню, была ли в камере койка, кажется, деревянные нары для спанья. Осматриваю камеру. На стенах многочисленные надписи здесь побывавших в заключении. Иногда просто имя и дата. Например: «Сижу здесь уже 26 дней, за что, не знаю» или: «Просидел 17 дней понапрасну». Или: «Нахожусь здесь и не знаю, когда выпустят. Может убьют…» Неутешительно, подумал я. Видно здесь сидят подолгу.
Первый день меня ничем не кормили, потом выдали по куску хлеба. Два раза в день приходил надзиратель, смотрел, не убежал ли я. Я стал ему жаловаться, что меня здесь держат голодом и не производят никакого расследования. «А ты сделай заявление», — сказал он мне.
Я был несколько удивлён такому совету, но написал бумажку с жалобой на третий день моего сидения в рыльской тюрьме.
На четвёртый день моего заточения в мою камеру поместили другого арестанта. Молодой человек в военной форме с неприятной физиономией. В его внешности было нечто болезненное и дегенеративное. Бледное лицо. Разговорились. Оказывается, чекист, служащий местного ЧК. По его словам, посадили его за то, что опоздал на один день вернуться из отпуска. Но, я думаю, что он чего-то недоговаривал, видно были и другие обвинения. «А что же ты делаешь в ЧК?» — спросил я его. «Да в основном обыски и аресты провожу. Очень часто, почти каждую ночь. А то и по несколько раз за ночь». — «А расстреливать приходилось?» — «Нет, на это есть другие работники, назначение их особенное». — «А можно было при обысках забирать что-либо для себя?» — «Что Вы, за это нас строго наказывают. Расстрел». Чекист очень волновался за свою участь и говорил, что не выйдет отсюда живым. Расстреляют! Так я провёл почти четверо суток в Рыльской милиции. Ходил по камере, думал. В голове вертелось одно стихотворение Брюсова, настолько созвучное моему сидению в большевицкой тюрьме. Я не удержался и написал двустишие Брюсова на стене камеры (оно эпиграф к этой главе): «Хохочут дьяволы на страже, и алебарды их — в крови». Так я переживал моё тогдашнее заключение.
Шестого сентября меня перевели из Рыльской уездной милиции в другое, несравненно более важное учреждение тогдашнего советского (молодого!) карательного аппарата. Это был Военно-контрольный пункт 41-ой советской дивизии (16).
Это было передвижное учреждение, перемещающееся с места на место в связи с движением фронта и имеющее своею целью борьбу с военными преступлениями (шпионаж, спекуляция и т. д.) в прифронтовой полосе. В этом было его отличие от Чрезвычайных комиссий, имевших постоянное пребывание в одном месте, главной целью, которых была борьба с контрреволюцией. В действительности, как мы увидим, Военно-контрольные пункты часто рассматривали дела, имевшие чисто «контрреволюционный характер», отдалённо связанный с военными действиями, так что трудно было разграничить их компетенцию от компетенции чрезвычаек. Да и вообще было трудно тогда говорить о каких-либо компетенциях, особенно в прифронтовой полосе, в том хаосе и произволе, которые царили в советских учреждениях в 1919 году. Обычно Военно-контрольные пункты только вели следствия и потом передавали дело Военно-революционному трибуналу, но имели, однако, право выносить приговоры самостоятельно, то есть, расстреливать или выпускать на свободу. Третий исход, то есть приговор к тюремному заключению, в эпоху гражданской войны применялся редко.
В Рыльске Военно-контрольный пункт 41-ой советской дивизии, куда меня привели, помещался в реквизированном особняке. В приёмной, матрос в рваных брюках записывает мои данные (фамилия и проч.). Тут же находится другой матрос, элегантно одетый брюнет с красивым но жестоким лицом, на его матросской фуражке вместо названия корабля надпись: «Красный террор». Тут я сразу понял, в какого рода учреждение я попал! В центре дома — комната средних размеров, без окон, а только с дверью, ведущей в другую большую комнату с окнами во двор, где были видны деревья. У открытой двери, сидел с винтовкой красноармеец. Караульные часто сменялись, но постоянно кто-то был.
Внутри комнаты было полно арестованных. Кто стоял или сидел на полу. Кого-то приводили, уводили, но постоянно в комнате было человек 15-20. Я присматривался к составу арестованных и понял, что в основном это были жители Рыльска или близлежащих местностей, которые обвинялись в сочувствии к Белым, которые недавно оставили эти места и отступили к югу. Но были и большевики, которые провинились перед «своей» Красной армией. Преобладали в этой комнате, мещане и, как мне показалось, ни одного настоящего контрреволюционера или интеллигента, кроме меня. Я заметил двух-трёх, на вид военных чиновников, интеллигентного типа, но их скоро куда-то увели.
Принесли горячий борщ. С голодухи мне он показался очень вкусным. Не помню сейчас, ночевал ли я в этом доме или нас в тот же день двинули дальше. Как бы то ни было, в полдень 6 сентября среди наших караульных возникла тревога. Мне стало ясно: белые наступают и угрожают Рыльску! Это было их крупное продвижение вперёд, ибо до этого фронт проходил в 40-50 верстах южнее Рыльска. Из разговоров караула понимаем, что в городе полная эвакуация. По улицам тянуться бесконечные обозы, спешно эвакуируются советские учреждения, тащат всё подряд, обозы забиты скарбом.
Наши караульные нервничают. Один из них, молодой парнишка, сущий хулиган, с остервенением бьёт стёкла в окнах: «Пусть белякам не достанется!» Другой, постарше, пытается его остановить: « Что ты делаешь, дурной! Может, ещё вернёмся, так как будем зимовать?!». Нас предупреждают: быть готовыми к отъезду. Куда-то исчезает наш часовой. Вот в этот момент и охватывает меня мысль, с ещё большей силой, что нужно бежать! Воспользоваться отсутствием часовых, паникой и бежать. Спрятаться в городе, где-нибудь в огородах, садах, а их много, и ждать Белых. Они вот-вот придут (17). Подхожу к двери и выглядываю в коридор. По нему постоянно снуют люди. Очевидно в конце коридора выход из дома. Выйду быстро, поверну по левому коридорчику и скроюсь. Но если меня заметят? А вдруг по пути будет ещё один часовой на посту? А может там и нет никакого выхода на улицу? Тогда меня поймают и расстреляют сразу. Слишком большой риск, а между тем абсолютной необходимости бежать у меня нет. Мои документы могут меня спасти. Стою у двери и не решаюсь.
В последние моменты приводят новую группу арестованных. Пять человек из села Снагость, где меня задержали «красные кубанцы». Среди них Кирилл Дюбин, председатель Снагостского волостного совета, присутствовавший при моём аресте. «А Вас за что же?» — с удивлением спрашиваю его. «Да за Вас, — отвечает он, — «кубанцы» вернулись, стали Вас требовать, хотели расстрелять. Но Вас уже не было. Обвинили меня, что я нарочно поспешил Вас отправить подальше, чтобы спасти. За это и арестовали». Позже я узнал, что против него было ещё одно обвинение, из-за Белых. Когда они первый раз приближались к Снагости, он должен был как и все ответственные советские служащие эвакуироваться. Дюбин этого не сделал и оставался при Белых в Снагости. Красные вернулись, и это было поставлено ему в вину. Он пытался оправдываться тем, что белые пришли неожиданно и он не успел уехать.
Среди других арестованных в Снагости был священник, отец Павел. Его арестовали за то, что сын его — офицер Белой армии. Как это обнаружилось не знаю. Может быть сын приезжал к нему, когда белые были в Снагости, или он поступил к ним в армию в это время. Во всяком случае когда большевики вернулись в Снагость, отца Павла арестовали. Они арестовали также бывшего царского старшину этого села, семидесятилетнего старика, за то, что он при белых надел медаль. Оказывается, что в дореволюционное время была какая-то медаль, которую носили сельские старшины и это был их отличительный знак. Потом привели ещё двух мужиков из Снагости, тоже за выражение симпатий к Белым. Вся эта группа в пять человек была арестована в Снагости «красными кубанцами». В последнюю минуту привели ещё женщину из Рыльска, около 60 лет. Домовладелица- мещанка, без всякого образования, обвинялась в том, что преподнесла Белым букет цветов.
Уже начинало темнеть, когда мы поспешно двинулись в путь. В хаосе эвакуации наше начальство не сумело раздобыть достаточно подвод, достали только две, на которые погрузили вещи. Наши десять конвоиров с винтовками шли, как и мы, пешком, чем были недовольны. Потом к нам присоединили ещё арестованного. Это оказался молодой красный офицер одетый в чёрное, а в прошлом, как выпытали большевики он был царским офицером. Его на окраине города встретила жена и тёща, принесли ему узелки с пищей и вещами на дорогу. Конвоиры не препятствовали. Видно было, что они относились к нему иначе чем к другим арестованным, может быть потому что он был родом из Рыльска, как многие конвоиры. Во всяком случае он был на привилегированном положении. С ним нас вышло из Рыльска всего 18 человек. Большинство арестованных — мужички, жители Рыльска и сёл прифронтовой полосы. В общем «кубанцы» постарались!
Мы продвигались быстрым ходом, конвоиры нас непрерывно торопили. Часам к десяти вечера в юго-западном направлении, сзади нас, стала слышна отдалённая артиллерийская канонада. Вспыхнуло багровое зарево пожара. Конвоиры кричали меж собой, что горят какие-то большевистские склады. К утру подошли к какой-то деревне. Расположились отдыхать на открытом воздухе. Было холодно. Дремали. Конвою удалось достать подводы, и в дальнейшем нам не пришлось идти пешком. В общем, мы двигались вперёд следующим образом. Впереди на своих подводах наше «начальство», «штаб» Военно-конторльного пункта из 5-6 человек. Мы его мало видели. Далее мы: на каждой подводе по двое арестованных, впереди возница-мужик, сзади конвоир с винтовкой.
Эвакуировать нас в южном направлении по железной дороге через Коренево и Льгов было, очевидно, невозможно, так как этот путь был уже отрезан Белой армией. По ночам останавливались в деревнях, где нам старались подыскать отдельное пустое помещение, которое легко охранять. Помню ночлег в селе Береза на полпути. Видно было по всему, что это было большое барское имение. Постройки экономии. На ночлег нас закрыли в большом пустом сарае. Слышу как конвоир-матрос с надписью на фуражке «красный террор» разговаривает с молодым крестьянином, отпиравшим нам сарай. «Это чьё имение?» — «Волжиным» (18). — «А что, вы их конечно убили?» — «Нет», — отвечает крестьянин. «Ну и жаль, их всех надо расстреливать», — с озлоблением говорит матрос, — а ещё лучше со всеми детьми. А то вырастут и захотят своё обратно получить. Зачем вы их не убили?« — «Да они уехали, скрылись». После этого поучительного разговора нас заперли на ночь в сарай наружным замком.
Днём едем, как я уже сказал, на подводах. Погода, слава Богу, всё ещё ясная, солнечная. Днём даже жарко, но к ночи сильно холодает. Около нас появляются два всадника, которые сопровождают наш обоз. Как будто красные офицеры или просто чекисты. Распущенные хулиганистые типы. Пытаются изображать из себя Белых. Один даже надевает погоны, а другой выкидывает жёлтый украинский флаг и так долго едет рядом с нашей подводой. «Поручик, — издевательски обращается ко мне один из них, — Как Вас эти мерзавцы поймали?» Сначала я не отвечаю, а потом говорю: «Я был задержан красноармейцами». «Ах, негодяи, — паясничает конный, — да как они смели! Их нужно расстрелять!» Наконец этот театр надоедает моему конвоиру, и он прогоняет хулиганов: «Ступайте! Убирайтесь! Довольно побезобразничали!» Конные с хохотом исчезают. Но почему они обратились именно ко мне и назвали меня «поручиком?» Значит каким-то чутьём выделили. Другой раз, когда я еду днём на подводе, кто-то толкает меня слегка в спину. Оборачиваюсь, это конвоир-матрос (но не «красный террор»), у этого на фуражке надпись «Черноморский флот». Он тихо протягивает мне буханку белого хлеба. Господи, как кстати. Нас, арестованных, уже два дня ничем не кормят (в отличие от конвоя).
Слышу от красноармейского конвоя рассказ о «подвигах» Красной армии. Мне уже приходилось слышать эти рассказы в разных вариантах. Рассказы о действиях провокационных и жестоких: « На днях наши решили испытать, кто за Красных, а кто за Белых. Надели погоны, кокарды. Целым отрядом пришли в Путивль. Заявляют: «Мы белые, пришли вас освобождать». Жители сначала отнеслись недоверчиво, потом поверили. Стал собираться народ. Приветствуют, благодарят, подносят цветы. А мы предлагаем записываться в Добровольческую армию. Записывается 150 человек. Приходит поп и начинает служить молебен на площади. Собралось множество народа. Посредине молебна наши по сигналу открывают огонь. Много убитых. А всех добровольцев расстреляли«. Этот рассказ (с вариантами) всегда вызывал у большевиков фурор, одобрение и громкий смех. Он рассматривался как доблесть и образец воинской находчивости и искусства. Но я и сегодня задаю себе вопрос: что это — правда или красноармейский фольклор? Думаю, что правда, но только приукрашенная в подробностях. (19)
Большинство арестованных, среди нас, как я уже сказал, крестьяне. Меня поражает их вера, их глубокая религиозность. Когда могут молятся, крестятся, бьют земные поклоны… Не ругаются, говорят о Божественном. Конечно, если гром не грянет, мужик не перекрестится; всё же несомненно, что русский крестьянин той эпохи был глубоко верующим и религиозным.
Через три дня путешествия, пешком и на подводах, проехав около ста вёрст, мы прибываем в город Дмитриев. Именно здесь и началась моя эпопея в прифронтовой полосе. Уже под вечер 9 сентября нас подвозят к вокзалу и грузят в теплушки. На этот раз такое распределение: в первой теплушке «начальство». Они устроились комфортабельно, спят вероятно на матрацах и уж точно под одеялами с простынями. Во второй теплушке наши конвоиры. В третьей — мы, арестованные, восемнадцать человек. Один конвоир, с винтовкой постоянно находился в нашем вагоне. Конвой часто менялся, а на ночь дверь теплушки запиралась железным засовом снаружи.
Хотя, мы и отошли от фронтовой полосы, но фронт за эти дни сам к нам приблизился. В этом мы убедились из рассказов конвоя: Льгов взят, более того только что получено известие, что Белая армия взяла Курск. (20) «А что совсем плохо, — говорит придурковатый молодой конвоир, — они захватили всю Курскую Чрезвычайную комиссию. Всех». «А что им теперь будет?» — наивно, а может быть, и хитро, спрашивает один из мужичков. «Как что? — с негодованием отвечает придурковатый. — Чего спрашиваешь, сам что ли не знаешь?» Мужички между собой перешёптываются: «Может белые на самом деле победят?». С севера из Брянска приходит эшелон, с красноармейцами. Их отправляют на фронт. Шумят, поют песни, не унывают. Их поезд стоит против нас, и наши конвоиры завязывают с ними разговор. «Вы откуда?» — «С Сибирского фронта. Вот разбили Колчака, а теперь едем добивать Деникина. А вы кто?» — «Да вот везём арестованных». — «Белых? Ну, а зачем их перевозить, Убить на месте, сразу!». Поздно вечером наш поезд трогается на север по направлению на Брянск, до которого мы едем двое суток.
За это время мне удаётся познакомиться как с другими «соузниками» по теплушке, с нашими конвоирами и в меньшей, конечно мере, с нашим «начальством». Мне кажется это интересным, а поэтому попытаюсь их кратко описать здесь. «Начальство» держалось от нас изолированно, и мы мало видели его вблизи. Их было пять-шесть человек, какую кто должность занимал, трудно сказать. Во главе стояли два брюнета, южного типа, скорее кавказцы, чем евреи; впрочем неуверен относительно, по крайней мере, одного. Некоторое исключение из них составлял один очень словоохотливый армянин лет пятидесяти. Он часто во время стоянок приходил к нашему вагону и подолгу разговаривал с караульными. Те относились к нему с уважением и отзывались о нём как о старом революционере и учёном человеке. С нами он избегал разговаривать.
Караульных было человек десять. Во главе их — начальник типа унтер-офицера или фельдфебеля старой армии, примкнувшего к большевикам. Он держал себя сдержанно, с военной выправкой, был сдержан в движениях, а в лице его было что-то жесткое. Среди других выделялись два матроса, о которых я уже говорил. Один, «Черноморский флот» — молчаливый и скорее добрый человек, давший мне буханку хлеба. Другой, «Красный террор» — законченный коммунист-фанатик и извращённо жестокий человек. Он был отнюдь не взбалмошным, как комендант в Рыльске, а наоборот, внешне сдержан, аккуратно одет в матросскую форму. «Давно мне что-то не попадался под руку офицер, — рассуждал он с другим караульным. —Попадись он мне сейчас, так я бы ему показал». Один из мужичков, со свойственным соединением хитрецы и наивности, спрашивает его: «Что это за слова такие на фуражке? Название корабля?» «Нет, это наша программа», — отвечает тот со снисходительным выражением лица. Остальные караульные были почти все молодые красноармейцы, малограмотные хлопцы, может быть и не плохие по природе, но развращённые службой во всяких «военно-контрольных пунктах» и подобных учреждениях. Некоторые из них вели себя распущенно, одурённые большевицкой пропагандой они походили на придурковатых. И на всех лицах какая-то «каинова печать». Во всяком случае, своим обликом они отличались от мобилизованных красноармейцев с их простыми русскими лицами, с которыми мне пришлось встречаться. Один из караульных особенно часто ругался по-матери. Желая на него воздействовать, один из мужичков говорит ему: «Ты знаешь, ведь за тем и сделали революцию, чтобы люди не ругались по-матери». «Неправда, — возмущается караульный, — если бы это было так, то за матерную ругань расстреливали бы. Однако не расстреливают». Другому юному караульному, обедавшему в нашем присутствии в теплушке из своего котелка (нас никакими обедами не кормили), мужички стали с укором говорить: «Что ж ты не перекрестишься перед едой?». Он что-то пробурчал в ответ, но на следующий день сам, правда, конфузясь и смущаясь, перекрестился ко всеобщему одобрению мужичков.
Из заключённых отмечу, прежде всего, священника отца Павла. О нём я уже рассказывал. Милый, тихий, скромный, смиренный человек. И сильно затравленный: нелегко ведь, когда над тобой хохочут и называют «длинногривым». Мы с ним дружественно беседуем, но из осторожности острых тем не касаемся, и я ему о моих «белогвардейских» планах не говорю, а он мне о своём сыне, не рассказывает. Да я и не расспрашиваю. Остальные арестанты в большинстве, крестьяне. Кладут в вагоне земные поклоны, крестятся, молятся. Большевики вначале смеются, но потом это и на них действует. Начинают меньше ругаться. Среди крестьян есть один особенный. Средних лет, шатенистая борода, волосы под скобку, прозрачные голубые глаза. Постоянно говорит о Библии, она у него была и он её много читал. «Жалко, что Вы её не взяли с собою», — говорю ему. «Хотел, — отвечает он, — да побоялся. Отберут, будут кощунствовать, издеваться». Уж не сектант ли он, этот знаток Библии, думаю я. «Я не так боюсь пострадать, — говорит он мне. — Пусть даже расстреляют или умру в тюрьме. Но детей жаль, останется на них клеймо. Будут говорить: отец был контрреволюционер».
Двое арестованных образуют особую группу, держаться вместе, видно, приятели. Один, восемнадцатилетний украинский хлопец, сын кулака. Прятался от большевиков в конопле, но они его поймали. Говорит мало, но не скрывает своего враждебного отношения ко всему советскому. Наши стражники отвечают ему тем же. «Вредный», как они о нём отзываются. Другой их города Сумы, лет 35, разговорчивый, с усиками, одет по-городскому, вылитый приказчик. Когда в Сумах были белые войска он оставался там, а потом, зачем-то уехал в районы, где были красные. Там его арестовали, сочтя за агента белых. Он много рассказывает, отвечая на вопросы, о жизни в Сумах при белых и, нужно сказать, в благоприятном для них духе. «Скажи, а рабочие там не унижены? — спрашивает кто-то, кажется из караула. «Унижены? Чем? — отвечает он. — Гуляют с офицерами по городскому саду». Спрашивают его, называют ли там офицеров «Ваше благородие»? Он говорит, что нет. Начинается спор, кто-то утверждает, что только у красных не говорят «Ваше благородие», а у белых продолжают говорить. «Нет, не так, — возражает «приказчик», — «Вашего благородия» сейчас нигде нет. Волки съели». Караульный не выдерживает и вмешивается: «Что это ты всё Белых хвалишь, видно ты их очень любишь?» «Приказчик» замолкает.
С нами сидит также литовец-красноармеец. Кокаинист, бродяга, где только в прошлом ни побывал, даже в Белой армии. Опустившийся и не совсем нормальный человек. Очень бойкий говорун, по-русски говорит довольно хорошо. Одет в солдатскую шинель. Арестован по обвинению в дезертирстве. Вероятно, о нём тоже хотят выяснить, что он за личность.
Загадку представляет для меня арестованный в Рыльске красный офицер (я уже упоминал о нём). Он пользуется большим доверием и уважением у наших караульных красноармейцев. Постоянно с ними разговаривает и удивительно умеет подладиться к ним. Красноармейцам приятно, что офицер, да ещё поручик старой армии, так запанибрата болтает с ними. Он рассказывает о своей службе в Красной армии. «Он большевик, — думаю я, — он им сочувствует? Но почему же его держат?» Будущие события ответили отчасти на мои недоумения (21).
Помню ещё одного арестованного молодого человека. Его присоединили к нам в пути. Интеллигент, вероятно студент, с «поэтической» наружностью. За что он сидел не знаю, но своё заключение он тяжело переживал, был в угнетённом состоянии и боялся расстрела. На этой почве у него начались тяжёлые припадки эпилепсии, по несколько раз в день, он бился, терял сознание. И чем дольше, тем его припадки усилились и учащались. На нас, да и на наших стражей эти припадки действовали удручающе. Я испытывал унизительное чувство своего бессилия чем-либо помочь и возмущение, что с больным человеком так жестоко поступают. «Вот большевизм в своей подлинной сущности», — думал я и, конечно, молчал. Никакой медицинской помощи ему не оказывалось. Караульные стали выражать недовольство, и через несколько дней, когда с больным случился очередной припадок, один из «начальников» пришёл на него посмотреть. После этого на одной из станций, не доезжая Брянска, его куда-то забрали, говорили в больницу.
Наконец последний «экземпляр» из моих воспоминаний о попутчиках. Это была домовладелица-мещанка из Рыльска. Она производила впечатление несчастного, жалкого, измученного и вместе с тем несносного и даже противного человека. Непрерывно рассказывала, как её арестовали по доносу племянницы, которая оклеветала и донесла на неё красным, когда те вернулись в Рыльск. Причина ареста — букет цветов, которые она поднесла Белым. «А племянница всё это проделала, чтобы захватить мой дом. Она и раньше просила, чтобы я пустила её к себе с мужем, но я не согласилась, вот она теперь и мстит мне». После этого она начинала громко молиться: «Господи, накажи её, порази её. Пусть она ослепнет, пусть она сдохнет!» При этом она крестилась и кланялась. Мужички останавливали её: «Так нельзя молиться. Против другого. Грех!» А караульные издевались. Уже полная шестидесятилетняя женщина, не привыкшая в прошлом к лишениям, она с трудом переживала длинные переходы пешком, спаньё на голом полу, в общем, все тяготы арестантской жизни. Но больше всего её мучила мысль, что её расстреляют. Боялась смерти. Отношение к ней караульных было жестоким. Насмешки, издевательства, даже запугивания. Под конец она стала явно сходить с ума.
Едем из Дмитриева в Брянск. Подолгу останавливаемся на станциях. Грустное чувство, что дальше и дальше я удаляюсь от фронта. Голодаем. По мере приближения к Брянску погода меняется. Пасмурно, холод, дождь. Настоящая осень. С каждым днём я замечаю, что я у «начальства» на плохом счету. Меня выделяют среди других. Правда, я и сам был неосторожен. Например, один из стражей, «придурковатый» малый, разговаривая с красным офицером, рассказывает ему о разных арестах. А тот в свою очередь делится воспоминаниями, как он ловил шпионов на Гомелевском фронте. «Ну и что же расстреливали?» — спрашиваю я. Тут «придурковатого» взорвало: «Вижу я, что ты из всех здесь самый вредный. Всё о расстрелах говоришь да спрашиваешь. Видно наделал чего, а теперь боишься». Я молчу и больше не вмешиваюсь в разговоры. Не надо дразнить гусей, и без того трудно.
Гораздо более серьёзный случай происходит на одной их остановок по пути к Брянску. Нужно принести для нас в вагон два ведра воды. Караульный спрашивает, кто готов это сделать. Вызывается один из мужиков и я. Берём по ведру. Кран в нескольких саженях от нас позади вагонов. Моя единственная мысль — немного пройтись, размять ноги, но когда я поравнялся с теплушкой «начальства» из неё выскакивает один из главных, хватает меня за плечо и приказывает: «Обратно!» А потом, обращаясь к караульному: «Я же приказывал вам этого никуда не выпускать. За ним особый присмотр!» Возвращаюсь в теплушку, вместо меня приносит воду другой мужичок. Ночью ко мне подсаживается литовец- кокаинист и тихо говорит: «Слушаете, сегодня караульный начальник с нами беседовал и сказал, что вроде не нужно беспокоиться. Будто из всех нас будут расстреляны два-три человека, не больше. И в первую очередь Вы, потому что у Вас нашли карту, а потому выходит, что шпион. Вам грозит расстрел. Я знаю, Вы — офицер. Бежим сегодня ночью вместе. Разобьём двери и выскочим… выпрыгнем из поезда на ходу». «Да как же разбить дверь? И что потом делать без документов? Ведь опять задержат и тут уж на месте расстреляют», — отвечаю шепотом я. «Разбить дверь я знаю как. А насчёт документов не беспокойтесь, достану новые. Не в первый раз». Я обдумываю. В моём положении мысль о бегстве очень заманчива. Но план бегства слишком безумен, да к тому же мне кажется, что положение моё не так уж безнадёжно. Мне кажется, что я смогу оправдаться, (смогу ли?). К чему так безумно рисковать. А главное, очень уж сомнительная личность этот литовец. Может он сам провокатор-предатель, во всяком случае — полусумасшедший. И решаюсь ответить ему: «Я вовсе не офицер, с чего Вы это взяли? Я студент. Документы у меня в полном порядке, в моём деле разберутся и меня выпустят. Думаю, что мне не зачем бежать». «Ну, как хотите, — говорит кокаинист, — только никому о нашем разговоре ни слова». «Не бойтесь, никому не скажу». Литовец уходит. А я и до сих пор в недоумении, кем был этот человек. Скорее всего, он хотел сам бежать, а меня уговаривал, чтобы в случае чего я составил ему протекцию у Белых.
На следующее утро, происходит ужасный случай. Рыльскую «домовладелицу» на одной из станций под Брянском выводят из вагона по естественной нужде. Проводят на расстояние по железнодорожным путям, в некоторое отдаление от поезда. Сопровождает её, как всегда в подобной ситуации, караульный с винтовкой. В данный момент это был «придурковатый». Становиться на некотором расстоянии. И тут эта обезумевшая женщина бросается бежать! Спрятаться ей негде. В одну минуту караульный догоняет её, бьёт со всего маху прикладом и приволакивает к вагонам. Она кричит, в истерике, плачет. Из своего вагона выскакивает «начальство», кавказец, и кричит: «Ты что же её не пристрелил?!» Это всё сопровождается истерическим матом, её «кроют» как могут. Куда-то уводят. Солдаты между собой рассуждают: «Ну, кончено с ней, за побег расстрел». Однако, на удивление, через полчаса её возвращают в нашу теплушку. Видно посовещались и решили, что ни к чему расстреливать сумасшедшую старуху. Наш караульный замечает: «Счастье её, что это был не матрос «красный террор». Он бы её на месте пристрелил».
Утром 12 сентября, наконец, приезжаем в Брянск. Вот уже десять дней прошло с тех пор, как меня арестовали «кубанцы» в Снагости, а меня ещё никто толковый не допрашивал и, расследование моего дела не началось. В Брянске нас разделяют. На тех, дела, которых были уже рассмотрены Военно-контрольным пунктом и переданы Военно-революционному трибуналу (их большинство, 13 человек), а остальных передают в Особый отдел при штабе 14-ой советской Красной армии. В эту последнюю группу вхожу и я. Она из пяти человек, три снагостских мужичка с Дюбиным во главе и священник о. Павел.
Нас приводят в большое кирпичное здание, на четырёх этажах, которого расположился Особый отдел. Когда-то здесь была женская гимназия. В нижнем этаже находиться приёмная. Толстый человек в военной форме, вроде того же «унтер-офицера», записывают нас в толстую тетрадь. Этот тип военных мне неоднократно приходилось видеть в рядах Красной армии. Странно, что во время этой записи, кроме обычных сведений, спрашивалась сословная принадлежность. Ведь большевики это сразу отменили. Так почему спрашивали? Пока до меня не дошла очередь, я стал мучительно думать, что сказать. Дворянин, как было на самом деле? Опасно. Крестьянин? Боюсь, что не поверят. Скажу, нечто среднее. Скажем, мещанин. Но надзиратель, взглянув на меня, как мне показалось с некоторой иронией, произнёс: «Крестьянин?» «Да», — ответил я, раз он сам мне так подсказал. Далее он спросил меня, какой губернии, уезда, волости, деревни. Мне нетрудно было придумать ответ. Я назвал деревню и местность, где я перед тем работал близ Весьегонска.
После этого нас повели в верхний этаж. Ввели в огромный продолговатый зал с окнами выходящими в город. Там нас поместили с другими заключёнными. Как только они заметили среди нас о. Павла, раздались крики: «Поп! Поп! Смотрите, длинногривый!» И несколько из заключённых стали петь издевательские куплеты: «У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил, и в землю закопал, и надпись написал: у попа была собака….» и так до бесконечности повторялась эта песня и крики, пока это занятие им не надоело. Отец Павел не обращал на эти издевательства никакого внимания. Но надо сказать, что пели и издевались не все, а только небольшая группа. Остальные никак не реагировали. Не было реакции и у солдат нас охранявших.
Число находившихся заключённых в этом помещении, всегда колебалось от 45 до 50 человек. Одних уводили, других приводили. Здесь не было никакой мебели, кроме двух парт, на которых устроились двое «привилегированных ловкача». За время моего пребывания в брянском Особом отделе, все сидели и спали на грязном полу. Слава Богу, что не было тесно. В полдень раздали по небольшому куску чёрного хлеба, а потом принесли неплохой по тогдашним понятиям горячий обед из одного блюда: суп с крупою и плавающими в нём квадратными кусочками мяса. Так как мы прибыли не с утра, вечером еды не дали. Можно было за деньги (их отобрали, но ими можно было пользоваться для покупок) заказывать на базаре через караульных хлеб или другую еду, но опять-таки на другой день.
Брянский особый отдел, действовавший наряду с ЧК и Военно-революционным трибуналом, был учреждением более высокого уровня, чем Военно-контрольный пункт. Хотя цели и компетенции их были сходны — борьба со шпионажем и другими подобными военными преступлениями в тылу Красной армии. В действительности, люди меня окружавшие, представляли из себя более широкий круг людей, среди них было мало подлинных контрреволюционеров и шпионов. По всей вероятности это были провинившиеся большевики, но более крупного калибра, чем в Военно-контрольном пункте. Но об этом позже.
На следующий день, часов в 11 утра меня вызвали на допрос. Солдат повёл меня по каким-то лестницам и закоулкам и, наконец, привёл в обширную комнату. В разных концах и за разными столами её сидело двое. Один из них был следователем. Это был человек лет 34 с тёмными волосами, худыми чертами лица, в чёрном кителе, по всей вероятности, русский. По первым его словам, я понял, что он был слабой интеллигентности; думаю, что его образование ограничивалось городским училищем. Другой, более молодой и развитой на вид, сидел за своим столом и, казалось, был погружён в работу, что не мешало ему, как выяснилось потом, внимательно следить за моим допросом. Следователь указал мне на стул против него и начал допрос.
Я должен здесь сказать, что к этому допросу я долго готовился. Более того, я представил себе заранее, какие вопросы мне могут задать и, как мог бы я на них ответить. Мне вспоминалось «Преступление и наказание», допросы Раскольникова, как их вёл Порфирий Петрович. Я как шахматист обдумал возможные шаги противника и нужные, убедительные ответы на них. Особенно потому, что в моём случае были слабые, опасные и неубедительные места. Например, на данном мне во Льгове «товарищем Каном» пропуске стояла дата 10 сентября, а я был арестован в Снагости близ Коренева 15 сентября. Спрашивается, что я делал эти пять дней? Сказать, что вернулся из Коренева в Дмитриев, проделав свыше ста вёрст расстояния, туда и назад — было совершенно не убедительно, да и непонятно как связано это с моей командировкой. Скрыть все эти передвижения я тоже не мог — а вдруг следователь, выслушав все мои объяснения, да ещё историю о «соли», посмотрит на дату моего пропуска и, как Порфирий Петрович Раскольникова «огорошит» меня вопросом: « Ну, и что же Вы делали, пять дней? А почему Вы умолчали о Ваших передвижениях? » Может самому, забегая вперёд рассказать «историю»? Но это может запутать дело совсем. Направление, которое мною было выбрано и моё передвижение, не было для следователя, который хотел меня обвинить в шпионаже, загадкой. Я двигался к фронту. Единственный ответ: за солью! Но он был неудовлетворительным.
Я мучился, стараясь придумать, как бы избежать это опасное место. Но сейчас, когда начался настоящий допрос, я скоро убедился, что моему следователю далеко до «Порфирия Петровича»! В сущности, вся первая половина допроса свелась к тому, что я должен был подробно рассказать о моей поездке, где я был, что делал. Иногда меня следователь пытался поймать на слове или смутить, но как-то примитивно. Так, когда я рассказывал, что проезжал через Вологду и получил там разрешение на проезд в Москву от Штаба армии, следователь сказал: «Шестая армия вовсе не на Северном фронте». Я стал спорить, но тут вмешался другой человек, сидевший сзади меня, за другим столом: «Он прав, штаб Шестой армии действительно в Вологде». Мой следователь был посрамлён, но далее он попытался поймать меня на вопросе о плотниках. «Расскажите, как бы Вы начали нанимать плотников? Ну, с чего бы начали?» Этот вопрос меня поставил в затруднительное положение. Надо сказать, по правде, я понятия не имел как это делается. Но, тем не менее, уверенно сказал: «Да пошёл бы в местный совет, навёл бы у них справки о плотниках. А потом мне помог бы мой спутник по командировке, он лучше знает техническую сторону». На моё счастье следователь тоже не имел никакого понятия, как нанимают плотников, и не был в состоянии углубляться в детали.
Наконец, дошло до самого опасного момента в моём рассказе. Я глухо и без указания дат сказал: «Из Льгова я поехал в Коренево…» Я опасался, что следователь посмотрит на дату моего пропуска и скажет: «А что Вы делали, пять дней? Где были?» Но, по милости Божией, ему и в голову не пришло это, а я, конечно, не стал сам рассказывать о моём двукратном путешествии Дмитриев-Льгов-Коренево, потом село Селино и Снагость. Всё же я был вынужден упомянуть о «путешествии за солью». Но по всему было видно, что хоть моя злополучная карта и находилась у него под руками, на столе, следователь был не в состоянии определить расстояние между Селино и Коренево. Меду тем расстояние между этими пунктами было в сто вёрст. Ну, а поэтому мои рассказы с отклонениями показались ему незначительными.
Для малоинтеллигентных людей, карта — массивный аргумент, который может привести, как к положительному результату расследования, так и к отрицательному! Эта карта вызывала у него вопросы. Я, конечно, упирал, что она советского издания, с новой орфографией, что я купил её перед путешествием в Дмитриеве, а если бы у меня были другие цели («вражеские, шпионские») я запасся бы заранее другой картой. Было ли это всё убедительно? Скорее звучало наивно. Но странное дело, следователя мои объяснения удовлетворили.
Потом ему попала в руки записка моего спутника, где он просит крестьянина одного села близ Коренева помочь мне в устройстве дел. Следователь долго рассматривал эти каракули и заметил: «Да, кто это пишет? Вроде совсем не интеллигентный человек». Он даже не поинтересовался, где находится это село. И на этом он успокоился совершенно.
После этого началась вторая часть допроса: социальное происхождение. Ответы мои я обдумал заранее. «Чем занимался Ваш отец?» — «Он был служащим Морозовской мануфактуры в Орехово-Зуево», — ответил я. (В этом была частичная правда. Мой отец действительно после революции был одним из директоров нашей бывшей, семейной мануфактуры) «Кем? Директором?» — усмехнувшись, спросил следователь. (Как, неужели он, поймал меня? Удивительно, как он попал в самую точку!) «Нет, счетоводом»,- отвечаю я. «Он жив?» — «Нет, скончался», — ответил я. Это была неправда, но я решил так ответить, чтобы не было дальнейших вопросов. « Чем Вы сами занимаетесь? » — « Учился в университете». Следователь как-то смягчился и, снова ухмыльнувшись, сказал: «Ну, я вижу, дело простое. Вас послали в командировку, Вы оставили Вашему спутнику делать всю работу, а сами поехали покупать себе соль!» «Ну, это не совсем так», ответил я, но не стал особенно спорить. Допрос кончился. Следователь начал составлять протокол. Долго сидел над ним, наконец, прочитал и дал мне в руки текст. Он был составлен куда более грамотно, чем в Снагосткой милиции, но и здесь не обошлось без грамматических ошибок. Текст этого протокола был, по сути, пересказ всего, что я рассказывал. Кратко и неясно в подробностях. Ничего о злосчастной поездке за солью, ни вопрос о социальном положении. Скорее всё выходило мне на пользу и, как бы правда была на моей стороне. «Согласны подписать?» — спросил следователь. «Согласен»,- ответил без колебаний я и подписал. «Но я чём же меня обвиняют?» — спросил я. Следователь посмотрел на меня, ухмыльнулся и многозначительно произнёс: «В подозрении». «Так, что же будет со мною дальше?» — «Это уж не мне решать, а как посмотрит коллегия следователей». Он встал, позвал солдата и, меня вернули, длинными коридорами в зал заключения. Я находился в смешанных чувствах. Могло бы быть гораздо хуже. Они меня ни в чём определённом не обвиняют. Но не может быть, чтобы они мне поверили на словах. Конечно, с их стороны это уловка и появиться какой-нибудь советский «Порфирий Петрович» и скажет: «А почему Вы умолчали о том и том?»
***
В тяжёлых мыслях и волнениях душевных прошли два-три дня заключения. За это время я несколько ознакомился с моими созаключёнными. Странно, но среди них преобладали, сами большевики. Любопытная коллекция человеческих типов.
Самый яркий из них, пожалуй, товарищ Азарченко. Лет сорока пяти, маленького роста, рыжий, вся грудь и руки в сплошной татуировке. Оказалось, что при царе был на каторге на Сахалине, после революции в гражданскую войну — партизанил на Дону против Белых. Захвачен ими в плен с группой партизан. Когда белые их расстреливали упал на землю, хоть и не был ранен, а рядом с ним убитый, у которого сорвало череп. Вот он и накрылся этим окровавленным черепом и, когда белые пошли добивать, приняли его за убитого и не тронули. В последнее время он был во главе ЧК недалеко от Киева. «Ах, как у меня дело было хорошо организованно, — с похвальбой говорил он, — По чайным и трактирам сидели агенты, знакомились с приезжающими, подпаивали их, и выдавливали потом из них, что они контрреволюционеры». После взятия Киева Белой армией, он поехал жаловаться в центр на предателей, высокопоставленных лиц. Но его перехватили по дороге, арестовали и держат уже более трёх недель. «Мне не выйти, — говорит он, — слишком много знаю про важных лиц, про их делишки». Он занимает в нашем зале хорошее место, на парте, а не на полу. И когда молодой парень, обвиняемый в дезертирстве, забирается на соседнюю парту, он на него кричит: «Тебя только вчера сюда привезли, а ты уже на лучшее место лезешь! Ты дезертир. Моя бы воля, я бы тебя на месте хлопнул, чего тебя держать! Да зря хлеб на тебя переводить!» Из любопытства и чтобы провести время, разговариваю с ним. « Я всякого контрреволюционера сразу вижу», — говорит он мне. Но как будто он, слава Богу, меня не «видит». Во всяком случае, когда я рассказываю ему, что послан, был в командировку и что у меня все документы в порядке и, тем не менее, меня арестовали, он замечает: «Удивительно, как у нас до сих пор нет согласованности в работе между разными учреждениями».
Другая любопытная группа: командный состав бронепоезда, шесть человек, из них два еврея, одетых в штатское, вероятно комиссары, остальные красные офицеры. Эти евреи самые приличные и культурные на вид. Когда в первый день в Особом отделе я остался без еды и увидел, что одному из евреев принесли с базара много хлеба и другому пищи, я подошёл к нему и попросил хлеба. Он сразу же, ничего не говоря, отрезал мне большой ломоть чёрного хлеба. Офицеры бронированного поезда, вероятно, были когда- то военными старой русской армии. Но мне понятно стало, почему они перешли к красным. Это был тип распущенных хулиганистых и спившихся людей. Они старались не унывать, особенно двое из них, одетых в брюки галифе, пели песенки той эпохи, вроде «Вова приспособился». Песни сопровождались выбиванием чечётки и другими кабацкими танцами. Я спросил их, за что они сидят: «Ведь вы красные офицеры?» «Да, случайно в пьяном виде нарикошетили», — ответили мне. «То есть вы пьянствовали, а за это вас посадили?» — «Нет, за это бы нас советская власть не посадила. А вот, то, что в пьяном виде нарикошетили, это плохо». Но что и где именно они «нарикошетили» было не сказано. Видно что-то серьёзное. Сначала, наслышавшись, что меня «поймали с картой», они, как и все, посчитали меня за шпиона. Но потом, когда я им в общих чертах нарисовал своё дело и допрос, они сказали: « Вот увидишь, тебя выпустят. А нас нет». Добавлю, что оба эти красные офицеры, распевали песню «у попа была собака…» и всячески издевались над о. Павлом. Через несколько дней эти издевательства прекратились. Может, надоело, а может и устыдились.
Помню, свои разговоры, ещё с одним красным офицером-кавалеристом, он был в совершенно разорванных от верховой езды брюках. «Проделал я верхом всё отступление, более тысячи вёрст, как только пришли на отдых, меня сразу по доносу арестовали, а за что, не знаю». Мне было трудно понять: кто он был на самом деле?
Из тех, кого можно условно назвать «контрреволюционерами», отмечу, прежде всего, двух бывших городовых города Брянска. Один из них сидел уже больше восьми месяцев, а другой даже дольше. Это были глубоко несчастные, голодные, измученные, забитые по разным тюрьмам люди. Грязные, вонючие, совершенно опустившиеся и потерявшие человеческий облик, они производили ужасающее впечатление. Более того, они были босы и кроме грязного и рваного нижнего белья, на них ничего не было. Их держали в стороне, около одной стены, и запрещали приближаться к другим заключённым (настолько они были грязны). Но они всё-таки пытались попрошайничать, просили окурки папирос или кусочки хлеба. Я часто видел, как один из них становился перед кем-нибудь, кто ест, и молча на него смотрел. Иногда им перепадало что-нибудь, часто прогоняли, а в насмешку их прозвали «Деникин» и «Шкуро». Окружающие заключённые постоянно над ними издевались, унижали, заставляли делать самые грязные работы. По теперешней терминологии их можно было назвать «доходягами». Говорили, что, будто сидят они за расклеивание деникинских прокламаций. Но мне в это не очень верилось, вряд ли они были способны на это. Просто их арестовали и держали до «суда» как бывших городовых. Раз утром один из них стал мочиться в нашем зале прямо на пол (по ночам никого не выпускали в отхожее место, а «параши» не было в зале). К нему подскочил один из офицеров бронепоезда и начал яростно хлестать его по щекам. «Я ведь запрещал тебе это делать!» — кричал он на него. Но, не реагируя на удары, он продолжал мочиться.
Была в нашем зале (камере) заключения ещё группа, пять-шесть человек, арестованных в городе Глухове по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации (22). Среди них сравнительно молодая учительница, недурная собой, прилично одетая, но с неуравновешенным выражением лица. По характеру она была словоохотлива и вот что она мне рассказывала: «Я работала учительницей в Сумах. Много пила, стала кокаинисткой, потеряла место, бедствовала. Когда в город пришли белые, я пошла в комендантское управление, просить работу. Поручик мне и говорит: «Работы у меня для Вас нет, а вот, если хотите, поступайте к нам в шпионки». Я, не подумав, согласилась. Дали мне фальшивые документы, снабдили деньгами и направили в Глухово, откуда я родом. Помогли перейти фронт. Благополучно добралась до Глухово, но тут испугалась и сама пошла в милицию и сказала, что послана шпионить. Думала, поверят и отпустят, а меня арестовали, много били, добивались к кому я послана. Пришлось мне назвать несколько человек, которых я знала в Глухове. Их тоже арестовали». Арестованные по её доносу сидели здесь же и конечно были страшно озлоблены на неё. По их словам, учительница всё выдумала. Они меня даже предупреждали: «Не разговаривайте с нею, она ненормальная, фантазёрка, и авантюристка. Воспользуется разговором с Вами и потом наговорит на Вас. Попадёте в беду!» Я стал её остерегаться, хотя иногда и разговаривал с ней. Уж больно жалкий она была экземпляр. Эта учительница была уверена, что её расстреляют.
«Эх, хотелось бы кутнуть напоследок!» — часто повторяла она. Деньги, которые у неё отобрали при аресте, ей не выдавали, о чём она жалела не только потому, что не могла делать покупки, но и «кутнуть» на них не могла.
Был среди заключённых в этом зале, ещё один странный тип, с которым мне удалось поговорить. Он был непомерно толст, и уже не молод. Этот человек мне рассказал, что был послан в командировку, и при проверке документов, где-то в пути, у него обнаружили множество пустых бланков за подписью и с печатью учреждения, которым он был командирован. Советская власть строго наказывала за подобные дела, так как они могли приравнять их к шпионажу или спекуляциям. Арестованный толстяк, всячески отрицал, что у него были тайные цели использования бланков: «Вы знаете, что теперь такой недостаток бумаги, я и захватил их, чтобы на них писать. Более того, просто (простите) для туалетной нужды. Всякий силён задним умом. Знал бы, что арестуют, так не брал бы!» Эту историю он рассказывал всем и на допросе держался этой версии. Кто его знает? Может и правда. Сомневаюсь только, что следователи удовлетворились такими объяснениями. Скорее всего, он был просто спекулянт, а не шпион. Но поди докажи советским органам, что ты не верблюд.
Был среди нашей группы и совсем дурацкий случай посадки. Нарочно не придумаешь! Этого человека арестовали, за то, что в Брянский почтамт пришло письмо «до востребования» с указанием его фамилии, но без инициалов. Оно пролежало там полтора года! Никто за ним не пришёл и, наконец, его вскрыли большевицкие власти. Содержание было краткое, но вероятно не понравилось ЧК, так как его при желании, можно было толковать двояко. Новые власти стали разыскивать в Брянске лиц с фамилией адресата. Конечно, нашли, арестовали и привели его в Особый отдел. Предъявили статью о шпионаже на основании письма. Его не убедительные оправдания, что если бы письмо было действительно для него, он бы зашёл за ним на почту, а не ждал столько времени (да и без инициалов) — не помогло всё это. Не поверили большевики. Так и не знаю, чем всё это для него кончилось.
Настоящим белогвардейцем был среди нас сидящих, только один, молодой человек. Ему было лет девятнадцать, и служил он в одном из кавалерийских полков Добровольческой армии. Во время конной атаки он был оглушён ударом шашки по голове, упал на землю без сознания и был подобран в окровавленном виде большевиками. Они сразу поняли, что это не мобилизованный, а настоящий доброволец. Поэтому и послали на доследование в Особый отдел. С ним у меня завязалась настоящая дружеская беседа. Была ли она откровенной до конца, не знаю. Он мне рассказывал, почти шёпотом, чтобы никто не слышал, много интересного о Белых, но что он настоящий доброволец, он не говорил, а я его не спрашивал. При всей откровенности наших бесед, я всё-таки не говорил ему, что стремлюсь к Белым, но по сердцу, я чувствовал, что мы хорошо понимаем друг друга. Он много и с любовью говорил о Белой армии, но опять же в нашем положении не переходя грани осторожности.
Ежедневно вызывали двух человек подметать пол на площадке лестницы, рядом с нашим залом. Вот и отца Павла дошла очередь. «Длинногривого, длинногривого! — закричала хулиганы. — Пусть поработает!» Батюшка смиренно и беспрекословно вышел подметать площадку. Мы с ним сблизились за наше сидение в Брянске и много говорили друг с другом. Он мечтал, если его освободят, вернуться к себе в Снагость, хотя бы пешком. «Но как я смогу перейти линию фронта?» — недоумевал он. «Кто знает, может быть, к тому времени фронт сам перейдёт сюда?» — отвечаю я.
Как раз на следующий день, после о. Павла и меня назначили подметать пол на площадке. Дали в руки метлу. Я стал энергично подметать, но больше подымал пыли, чем дело делал. Наблюдавший за мной солдат, заметил это и попробовал сначала меня учить, но без успеха. «Видно, ты никогда в жизни не подметал пола, — сказал он мне раздражённо. — Сидел бы спокойно, а то нет, лезешь всё не по делу». Слышу, как тот же караульный при мне рассказывает своему красному товарищу: «Повели мы на расстрел генерала. Монархист, у него мы нашли три пуда погромной литературы (уже тогда, подумал я). Не разговаривает, только повторяет нам «Что делаете? А если делаете, то делайте быстро!» Проводим его мимо церкви. А он крестится! С чего ему крестится, всё равно ему конец, не спасёт Бог. Неужто сам того не понимает?»
В этот момент на площадку, которую я подметал, привели два-три десятка пленных солдат. Все они бывшие красноармейцы, попавшие в плен к Белым и зачисленные их в армию, но опять взятые в плен Красными. «У белых плохо, — говорили они мне, чуть что, порют шомполами. Вот мы и переходим к красным». «А к белым как вы перешли?» — спросил я. «Мы к белым не переходили, они нас забрали в плен», — испуганно встрепенулся пленный. Сколько во всём этом было неправды и сколько приспособления к обстоятельствам, сказать трудно. У белых они пробыли три недели. Их не посадили вместе с нами, как белого кавалериста, но держали на более свободном положении, хотя и под арестом. А беседа моя с Кириллом Дюбиным ни к чему не привела. Непроницаемый человек. Рассказывает, как он участвовал во Всеукраинском съезде советов, но кому сочувствует, не поймёшь.
Как я узнал, за время моего заключения, у Красных была тогда такая система по отношению к пленным, которые побывали у Белых. Большевики делили их на три категории: 1) Мобилизованные, сдавшиеся в плен. Их вскоре зачисляли в Красную армию.2) Бывшие красноармейцы, попавшие в плен к Белым и вновь взятые в плен Красной армией. К ним относились строже и производили расследование, при каких условиях они попали в плен к белогвардейцам. Не перешли ли сами? 3) И, наконец, заядлые белогвардейцы, их сажали в Особые отделы и, вероятно, ликвидировали, если не расстреливали на месте.
Знаю, что наших мужичков из Снагости били при допросах, пугали расстрелом. Значит, не всех так «корректно» допрашивали, как меня (мне говорили «Вы» и ни разу не называли «товарищем»).
На третий день моего заключения в Брянске к нам привели группу арестованных из брянской чрезвычайки. Как выяснилось, в минувшую ночь чрезвычайка расстреляла 45 заложников, находившихся вместе с ними в тюрьме. По России в эти дни прокатилась огромная волна расстрелов. Дело в том, что в Москве, в месте заседания ЦК коммунистической партии была заложена бомба. Она взорвалась, и при этом было убито несколько десятков человек. Об этом писали советские газеты (23). В отместку, большевики произвели массовые расстрелы заложников по всей территории России.
В Брянске в качестве заложников держали местных «буржуев», купцов и видных лиц; некоторые из них сидели в тюрьме уже долгие месяцы и совершенно не ожидали того, что с ними случилось. «Среди расстрелянных был один местный богатый человек, — рассказывал нам, весь потрясённый, один из переведённых к нам из чрезвычайки, — он такой был всегда жизнерадостный, всегда бодрый. Он нас всегда утешал, успокаивал и уверял, что все мы вернёмся скоро домой. Он с вечера ещё ничего не знал, а ночью его с другом неожиданно забрали, увели и расстреляли. Это так ужасно! Вчера с ним ещё шутили, разговаривали, а сегодня он уже расстрелян!» Известия о массовых расстрелах ширятся и потрясают всех. Я начинаю думать, как бы красный террор не перекинулся и на нас в этом зале. Будут косить без разбора. Говорю о своих опасениях одному из заключённых. Но его реакция меня удивляет: «Да что тут общего? Там буржуи, контрреволюционеры, а мы честные советские служащие. Что тех расстреляли, это правильно, хорошо, так им и надо, но на нас это не отразиться. Нас ведь не обвиняют в контрреволюции?!»
Так прошло три дня. Читаю московские газеты, их можно заказывать вместе с продуктами на базаре. Вижу: у Белых большие успехи на Льговско-Дмитриевском фронте. Быстро продвигаются вперёд и, если будет так продолжаться, они скоро займут Дмитриев, потом Селино, что может сильно осложнить моё положение, начнутся проверки, письма и запросы в Москву. В общем, вряд ли мой переход к Белым осуществиться, как я задумывал, вероятнее всего меня в ближайшее время здесь расстреляют.
С такими мыслями я тогда пребывал, и потому для меня было полной неожиданностью, когда на пятый день моего заключения,16 сентября, меня вызвали на допрос. Опять ведут по разным лестницам, закоулкам и коридорам. Вводят в комнату, где за столом сидит человек лет сорока пяти с красным одутловатым лицом. На нём военный китель. Видно более важный, чем мой первый следователь. Сажусь перед ним на стул. На столе у него мои документы и карта, которую он как будто рассматривает. Я сразу пытаюсь ему объяснить, откуда эта карта, но он меня обрывает: «Оставьте, карта не имеет никакого значения. Мы рассмотрели Ваше дело и видим, что Вы были арестованы без всякой причины и неосновательно. Прошу Вас, не обижайтесь на нас. Вы знаете, наши красноармейцы на фронте возбуждены, волнуются, раздражены. Это понятно, но на нас Вы не сердитесь, как говориться по пословице: «От сумы и от тюрьмы не отрекайся!» Сегодня Вы будете свободны». Я не верю своим ушам. Что это — действительность или сон? Стараюсь быть сдержанным и говорю: «Раз всё благополучно кончается, сердиться не буду, но красноармейцы на фронте действительно выходят из себя» Прощаюсь и, меня выводят с солдатом за дверь. Голова моя идёт кругом. Я как говорится « лечу на крыльях ветра».
Возвращаюсь в нашу общую камеру-залу и в первый момент ничего не рассказываю о происшедшем. Через некоторое время, меня опять гонят мести пол. «Меня сегодня выпускают», — возражаю я. «Ну и что же, — отвечает караульный, — выпускают вечером, а сейчас иди, подметай». Приходится подчиниться. Мои слова о выходе на свободу вызывают сенсацию. Одни радуются, сочувствуют, другие завидуют, удивляются и возмущаются: «Как это такого явного шпиона с картой, освобождают! А мы здесь сидим, вообще ни за что». Как мне становится известным, собирались даже подать письменный протест, тюремному начальству. Хожу по зале и думаю: как это могло произойти? Правда, против меня не было никаких улик, но ведь они должны были навести справки обо мне в Москве. Иначе как могли доказать, что я чист. А если в тогдашнем хаосе не могли ничего узнать, то просто поверили моим рассказам. Более того, ни следователям, ни «красным кубанцам», не пришло в голову, что я хочу перейти фронт к Белым. Единственное объяснение всей этой неразберихи и произволу, что в брянском особом отделе засели тайные белогвардейцы, и они меня освободили. На днях я подобном случае читал в газете, что белые проникли в курское ЧК, помогали там контрреволюционерам, но потом их раскрыли. Может быть и здесь так? Ведь, как не скрывай мою историю, под «командировку», а потом «за солью», мне не верится, что можно так, просто не проверив меня отпустить. Мне всегда казалось, что и в манере говорить и в облике моём, было много подозрительного. То, что называется, за версту несло «недобитком» и буржуем.
Часы проходят, но никто за мною не приходит. Начинаю нервничать. Неужто меня обманули? Наконец в пять часов меня вызывают. Наскоро прощаюсь с отцом Павлом. Караульный ведёт меня опять по лестницам и приводит в совсем другую комнату, чем та, где меня допрашивали. Долго там жду один. Начинает темнеть. Наконец приходит служащий, зажигает свет, долго выписывает что-то из толстой книги. «Прошу дать мне свидетельство, — говорю я ему, — что я был арестован без основания, просидел две недели, освобождён и могу продолжить свою командировку». Служащий настукивает на машинке следующую бумажку: «Такой-то был арестован такого-то числа, освобождён Особым отделом 14-ой армии по отсутствию состава преступления. Разрешается поездка в Дмитриев для исполнения служебных обязанностей». Потом он мне возвращает документы и карту. Я не хочу её брать. «Она мне не нужна», — говорю я. «Нет, она Ваша, берите!» — настаивает служащий. Чтобы не заводить спора, беру. Возвращают и отобранные деньги, но вместо пятисот керенок дают на эту сумму облигации займа Временного Правительства, которые ничего не стоят. Это надувательство и обман! Я мог бы протестовать, но молчу, чтобы ни на одну минуту не задержаться здесь. Скорее из тюрьмы на волю!
Караульный ведёт меня на тюремный двор к выходу. Вижу как один из красных офицеров бронепоезда, (тот, кто отбивал чечётку) колет под надзором дрова. Увидев меня, распрямляется и скорее с грустью произносит: «Эх, бывают же на свете счастливые люди!» Меня доводят до ворот, дальше солдат не идёт. Прохожу мимо часового, который не обращает на меня никакого внимания. Я на свободе!
Примечания
- Входила в состав 14-ой советской армии. Командовал 41-ой дивизией Эйдеман, латыш по национальности, впоследствии корпусной командир. Расстрелян в 1937 году вместе с Тухачевским. (См.: Роберт Конквест. стр. 197, 198, 213).
- В действительности Рыльск был занят Белой армией только 10 сентября, то есть через четыре дня.
- Это было имение, 1200 десятин, А. Н. Волжина, обер—прокурора Святейшего Синода в 1915-1916 гг. Я встретился с ним в Мюнхене в 1922 г., и рассказал ему этот случай.
- Действительно, такого рода факты, подтверждает генерал Туркул. Он описывает. как «червонные», надели погоны и прикинувшись белыми, заняли местечко под Ворожбой. Потом расстреляли более двухсот мирных жителей, которые их гостеприимно встретили приняв за белых. (ген. Туркул., стр. 119-120).
- Город Курск был взят корниловцами 7 сентября.
- См. о нём дальше по тексту.
- Город Глухов был занят белыми 14 сентября, то есть как раз в эти дни.
- Газета «Правда» от 26 сентября. По её данным, бомба было брошена вечером 1225 сентября. В числе убитых коммунистов был старый большевик Загоров. Именно в его «честь» Троице-Сергиев Посад был переименован в Загорск. По сведениям опубликованным в советских газетах, в связи с брошенной бомбой в Москве было расстреляно свыше 60 «контрреволюционеров», преимущественно кадетов (братья Астровы и другие), военных и даже женщин-«шпионок».