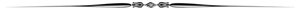Марш вперёд, Россия ждёт
Дроздовского бригады.
Боевая песня Дроздовцев
Несколько успокоившись от пережитых волнений и освоившись с новой обстановкой, я понял, как я голоден. Ведь за последние три-четыре дня кроме хлеба, да и случайно мне перепадавшей скудной картошки, я более суток вообще ничего не ел и не пил. Я попросил дать мне есть. Мне ответили, что походная кухня с обедом, ещё не прибыла. Тем не менее, один из солдат поделился со мною хлебом, и меня повели в избу, где я напился воды и хозяйка, молодая баба, угостила меня похлёбкой. Я набросился на еду и ел так много, что солдат, который стоял рядом, улыбнулся и сказал: «Не ешь сразу так много, после голодовки это может тебе повредить!» Хозяйка, когда других не было в комнате, спросила: « Скажи, а почему ты к ним перешёл? Ведь у них строже! » Я был огорчён этим замечанием. «Зато у них лучше. А у большевиков, расстрелы, мародерство и голод. Потому я от них и ушёл».
Через час привезли обед. Ну, и конечно я снова пообедал. Мне показалось, что это был вкусный и сытный обед. Но на самом деле, в то время в Добровольческой армии хорошо кормили. По общему мнению, в то время как Красная армия превосходила Белую в смысле техники, вооружения, обмундирования, у добровольцев продовольствие было лучше поставлено, особенно в смысле мяса и хлеба. А то, что у белых был недостаток техники и одежды, меня удивило. Я был уверен и воображал, что англичане снабдили Белую армию всем нужным.
Вернулись два солдата, посланные на разведку. Усталые, с лицами, покрытыми толстым слоем коричневой пыли. И шинели их были тоже в пыли. «Ох уж эта война, — сказал один из них, — нет на свете ничего худшего, чем война». Немного позже слышу, как один солдат рассказывает. Ему было поручено, что-то «реквизировать» у населения, — не то пищу, не то одежду. Его рассказ меня удивил: «Ну я, конечно, первым делом пошёл к попу, грожу ему «давай, а то плохо будет!» «И как тебе не стыдно было требовать у попа, — срамит его другой. — Ведь ему красные «братушки» и так глаза повыцарапали». Очевидно, первый только недавно попал к Белым из Красной армии и не разобрался ещё в настроениях.
После обеда мы движемся вперёд в северо-восточном направлении. Подвод крестьянских, как обычно, не хватает. На них кладут вещи, а большинство идёт пешком. Я иду в этой колонне. Мне ещё не выдали винтовку, говорят, что меня отправят для проверки в какой-то штаб. У меня узкие сапоги, и после вчерашнего суточного «марш-броска», я не могу идти, так разболелись ступни ног (в общей сложности я прошёл вёрст 50-60). Прошу сесть на подводу, но них едут старшие и мне отказывают: «Должен идти пешком», но потом соглашаются. Мы мирно беседуем, офицеры расспрашивают о «Совдепии». Отношения офицеров и солдат между собой, скорее простые, но уважительные. Солдатам лет под тридцать, видно, они проделали германскую войну. Кто они — добровольцы, мобилизованные или пленные, а может перебежчики от красных. Понять трудно. Офицеры симпатичные, образованные. К вечеру, пройдя верст десять, ночуем в деревне.
На следующий день, 21 сентября, меня переводят в офицерскую роту (43). Об отправке в штаб для проверки больше речи нет, слишком явно, что я «свой», белый, а не большевицкий агент. Мне выдают винтовку, хотя я с ней хорошенько не умею обращаться, первый раз в жизни держу в руках. Выдают также две ленты патронов, вешаю их на себя крест-накрест. Прошу выдать мне шинель, а то я хожу в одном непромокаемом летнем плаще, а уже наступают холода. Мне говорят, что «у нас» в одежде недостаток, вот когда добудем у пленных красных, тогда выдадим. Я новое обмундирование получил через две недели, тонкую, не зимнюю шинель, так что стал носить сверху мой плащ. В таком виде я был похож на чучело. Поручик Андреев много раз говорил мне не делать этого, но я отвечал: «Не могу, замерзаю. Дайте шинель потеплее». В офицерской роте было тогда около 80 человек. В первых трёх взводах действительно офицеры, в четвёртом взводе, куда меня зачислили, было четыре-пять офицеров, остальные 15-18, добровольцы. В послеполуденное время получилось известие: Дмитриев взят нами! (44). Никакой артиллерийской стрельбы мы, однако, за весь день не слышали. Грузимся на подводы и через несколько часов приезжаем ещё до темноты в Дмитриев. Размещаемся на ночь в каком-то большом каменном доме, спим на полу. Странно, но и радостно ощущать, что Дмитриев, где я был всего два дня тому назад, теперь в наших руках. И теперь я не прячусь, а могу спокойно ходить по его улицам.
На следующий день утром, улучив свободную минуту, иду посетить М. Все они страшно перепуганы, но надеются, что при белых будет лучше и спокойнее. Прошу вернуть мне мои вещи, которые я у них оставил на хранение. Они мне сейчас крайне нужны (это куртка, бельё и ещё кое-что другое, но важное в походе). « Невозможно Вам сейчас их дать, — отвечают мне, — мы их зарыли вместе с собственными вещами на дворе. Там сейчас стоят солдаты, боимся при них выкапывать. Подождите несколько дней, солдаты уйдут, всё успокоится, и мы их Вам вернём». Это меня совершенно не устраивало, ведь я не знаю, куда меня переведут завтра, а тем более что будет со мной через три дня. Но ничего не поделаешь, не настаиваю, не хочу подводить людей, которые всё же оказали мне услугу. «А что стало с этим коммунистом К.?», — спрашиваю я. «Да он совсем не коммунист!» — «Знаю, знаю!» — «Так он у нас здесь сидит. Боится выйти. Хотите его увидеть?» Меня ведут во внутреннюю комнату, где у стола сидит К. На его лице крайняя озабоченность, он испугался, когда увидел меня.
«Не бойтесь, — говорю ему. — Вы меня не выдали Красным, и я теперь не стану на Вас доносить». Всё ж таки мне дали кое-что из моих вещей, которые не были зарыты. Я их сдал в обоз, где они впоследствии благополучно пропали.
В описании дальнейших событий мне трудно будет указывать точные даты, как я это делал до сих пор. Из-за однообразия и монотонности моей военной жизни время слилось, а числа и дни стёрлись из памяти.
Нашу офицерскую роту всё время держали в резерве, берегли для крайних обстоятельств. Поэтому мы не видели фронта, и даже гул орудий до нас не доносился. О том, что происходит на фронте, мы добровольцы четвёртого взвода, тоже мало знали. Черпали новости из рассказов офицеров или от нашего ротного командира, поручика Пореля, который собирал нас иногда и рассказывал о передвижении войск. Никакие газеты до нас не доходили. Как бы то ни было, 23 сентября мы выступили из Дмитриева на север. Ехали на подводах, останавливались в деревнях и к 25 сентября прибыли в город Дмитровск Орловской губернии, что в верстах 60 к северу от Дмитриева (45). Фронт находился ещё дальше, верстах в 15-20 к северу. Эти цифры говорят сами за себя — так быстро развивалось за последние дни наше наступление.
Настроение у добровольцев нашего взвода было до легкомыслия оптимистическое. Все только и говорили, что « через неделю, а может, и через пару дней мы будем в Москве». Но все эти эйфорические настроения были у людей, не побывавших, в сущности, в настоящих боях. Большинство из них записались в Белую армию недавно в Рыльске и вместе с офицерской ротой находились в резерве. Сам я точно так же как и они, с момента поступления к белым, всецело уверовал в быструю нашу победу. Но в отличие от многих, я видел, что происходит у красных, что они перебрасывают на фронт крупные силы и что организация и воля к победе у них не сломлены. А поэтому сознавал, что победа дастся в результате упорной и, может быть долгой борьбы. Поэтому, принимая участие, в одном из таких оптимистических разговоров, я заметил: «Дай Бог, чтобы мы были в Москве через месяц или даже два». Моё замечание вызвало резкое недовольство: «Что Вы такое говорите! Нет, мы будем в Москве через неделю. Мы обязаны там быть до зимних холодов. Иначе нам всем будет плохо».
В этом ответе было много правды, особенно то, что, касалось зимы. Но по реальности оценки, такие настроения были очень опасны. И, когда в дальнейшем, война и продвижение стали затягиваться, среди рыльских добровольцев началось разочарование и упадок духа. Нужно сказать, что наши офицеры были более сдержанны в своих оценках происходящего (46).
Итак, в Дмитровске наша рота расположилась в каменном здании женской гимназии. Наш взвод поместился в большом зале нижнего этажа, спали на полу. Организация питания шла из рук вон плохо. С утра долго не выдают хлеба, обед тоже задерживают. Мы голодаем. Вижу, что два добровольца нашего взвода идут с большими ломтями хлеба, говорят, что им дали в соседнем доме. После некоторого колебания иду и я туда. Объясняю хозяйке, молодой женщине, что с утра ничего не ел, выдача задержалась. Она, ни слова не говоря и не выражая никакого неудовольствия, отрезает мне большую краюху чёрного хлеба. Это видит другой доброволец, из команды пеших разведчиков, и укоряет меня: «Как Вам не стыдно просить хлеба у населения, они сами в нём нуждаются. Вы же доброволец и не должны так поступать. Имейте терпение, хлеб будет Вам роздан». Мне стало действительно стыдно, что я не смог сдержаться, но видимо я так наголодался за все предыдущие недели, что инстинкт был впереди разума. Действительно, вскоре приехала походная кухня. Нам раздали хлеб, а позже и горячий обед.
Днём, идя по улице, я увидел замечательную сцену. Посередине дороги идут двое мальчишек, один лет двенадцати, другой десяти. Они несут громадное трюмо. На лицах торжество, сияют: «Красный комиссар это у нас забрал, себе на квартиру поставил. Теперь нам вернули, несём обратно домой». Я стал выражать им свою радость, но в последствии часто вспоминал эту сцену: что стало не только с трюмо, но и с ними самими и их родителями, когда вернулись красные в город? Может быть, эта простая, но состоятельная семья, которых были тысячи по России, сумела спастись, бежать или уехать в эмиграцию, от бесчинств Красной армии.
На следующий день, из разговоров с местными жителями, я понимаю что: «Сегодня по случаю праздника Иоанна Богослова, в соборе было торжественное богослужение, а потом молебен о победе Белой армии. Присутствовало много ваших начальников» (47)
Я очень жалею, что никто не сказал мне об этом раньше, я непременно бы пошёл. Всё же иду в собор, но он уже пуст, богослужение окончено. Храм полон ладана. Помолившись, выхожу.
* * *
Вечером для нашей роты была устроена баня, но меня назначили часовым у дома, где остановился ротный командир. Стою с ружьём, мокну под дождём, мёрзну и мечтаю о бане. Но, когда возвращаюсь к себе, почти в полночь, баня уже кончилась. Горячей воды не осталось. Ах, как было жаль! Мне хотя бы немного хотелось освободиться от вшей, которые меня поедали. Впрочем, баня не помогла бы, ведь у меня не было смены чистого белья. Пытаюсь снять сапоги на ночь, но они такие узкие и мокрые, что не снимаются. Усталый, ложусь спать на пол в сапогах и засыпаю каким-то болезненным сном.
Сколько я проспал, не знаю, но только внезапно вскакиваю по тревоге! Вбегает офицер, и кричит: «Немедленно вставайте! Хватайте винтовки, какая под руку попадёт, выходите на улицу… Красные в городе! Скорее!» Снаружи уже слышны выстрелы. Хорошо, что я в сапогах. Оружие наше сложено в соседней комнате. Хватаю первую попавшуюся винтовку, как ни странно свою. Оказывается, отряд красных, человек пятьсот, пробрался к нам в тыл и неожиданно напал на город. Незамеченные, они дошли до центральной площади и стали спрашивать, где здесь женская гимназия. Из этого можно сделать вывод, что они знали, где помещается офицерская рота. Тут красные сделали ошибку, начали стрелять и тем обратили внимание на себя наших часовых. Если не это, то они смогли бы перерезать и перестрелять всю спящую после бани роту.
Было три часа ночи. В городе четыре параллельных улицы. На первых из них, в центре и влево, выстроились три взвода, а на четвёртой, наш взвод. Начался бой и наступление на красных. Ожесточённая стрельба шла на улицах левее нас, видимо именно там сгруппировались основные красные. Пред нами их, вероятно, не было, но мы держали оборону, и до нас долетали только отдельные пули на излёте. Я впервые оказался в настоящем деле, в бою, да ещё так неожиданно! Нам за ночь не пришлось много стрелять. В начале, когда мы только шли занимать позиции в кромешной темноте, под свист пуль, я очень боялся, трусил за жизнь, но потом это прошло. Как ни странно, больше страдал от холода и дождя.
К пяти часам утра бой прекратился, красные были выбиты из города. Мы оказались на его северной окраине, где нам было приказано продвинуться вперёд, версты на две и занять позиции на реке Нерусе. У нашего командования был план окружить красных, отступивших за реку и занять возвышенность севернее Дмитровска. Наш взвод был оставлен в виде заслона, на случай если красные вздумали бы отступать. Мы стали готовиться к бою, вырыли в песке небольшие прикрытия и замерли в ожидании.
Погода между тем несколько исправилась, сквозь осенние облака выглянуло солнце. В три часа дня начался бой. Нам с возвышения было видно, как офицерская рота гнала перед собою красных (по близорукости я, к сожалению этого не видел). Треск ружейной стрельбы всё усиливался. «Вот они сейчас повернут в нашу сторону», — заговорили вокруг меня, и нам велели быть готовыми к бою. «Смотрите, — приказывает нам поручик Роденко, — никто не должен самовольно бросать свои позиции, если нас будут атаковать красные! Я пристрелю каждого, кто побежит. Красные должны увидеть наш боевой дух и понять, что мы не трусы. Тогда они отступят. А если кто из вас струсит и побежит, верная смерть, я его сам пристрелю!» Эти слова были обращены к нам, «добровольцам», ни разу не обстрелянных и не бывших в настоящем бою. Безусловно, поручик Роденко имел основания не доверять нашим боевым качествам, и сомневаться в нашем духе. Но всё же мне было обидно слышать ненужные угрозы. Неужто всё основано на страхе смерти, и мы воюем из под палки? Это ведь не так!
Красные, однако, довольно быстро поняли, что им не занять позиций, что они будут разбиты, а поэтому повернули в другую сторону и бежали. Мне было жалко, что не пришлось активно побывать в атаке. Мы даже ни разу не выстрелили! Красные оставили за собою пятнадцать трупов, у нашей роты был всего один раненый. У красных было большое численное превосходство, пять пулемётов, а у нас один, и, несмотря на это мы их отбросили. Наша лёгкая победа над ними, меня убедила в нашем боевом превосходстве и укрепила веру в победу. Может и вправду через неделю нас ждёт Москва!
Вернувшись в город, наши добровольцы наперебой рассказывают друг другу, что видели ночью, как шёл бой. Те, кто оставался в городе, зажигали свечи перед иконами и молились о нашей победе. Выясняется, что когда случилось ночное нападение, у нас под стражей находилось двое молодых пленных красноармейца из местных жителей. Подозревалось, что они активные коммунисты, а потому их прислали в офицерскую роту на доследование. Их было совершенно не возможно охранять во время ночного боя. Решено было убить их. Приказали им лечь на землю. Лежащих ударили штыком в спину, между лопаток. Они громко кричали. Ударили второй раз, убили окончательно. Я молча слушал этот тяжёлый рассказ. Конечно, ничто не может поколебать мою веру в Белое дело, но всё же тяжело.
Примечания
- Офицерские роты стали образовываться в добровольческой армии в конце лета 1919 года, когда даже в так называемых «офицерских полках» большинство воинских чинов состояло из мобилизованных солдат. Офицерские роты обыкновенно держались в ближайшем резерве и вводились в бой только в критических обстоятельствах. Целью их образования было сохранять офицерский состав от чрезмерных потерь, а так же выделять из него нужные командные кадры для формирования новых частей, восполнять потери в офицерах.
- 44. Дмитриев был взят белыми за два дня до этого, но потом утрачен. См. у Кравченко: «21-го сентября красные повели наступление на г. Дмитриев и было заняли город, но к 17-ти часам контрнаступлением наших частей вновь выбиты, и город был окончательно занят нашими частями» (стр. 289). Очевидно, что полученное известие относилось ко второму взятию города белыми. В их руках он оставался более месяца.
- Дмитровск Орловский (не путать с Дмитриевым Льговским) был взят самурцами с боем 24 сентября, то есть накануне прибытия туда (см. Кравченко, стр. 289).
- Угрозу Москве в сентябре 1919 года признавало само советское командование: «Состояние 14-ой и 13-ой армий (действовавших против нас)… создаёт обстановку, при которой не исключается опасение за Орёл и даже Тулу и Москву», — пишет в своём докладе советскому правительству от 8/21-13/26 сентября красный главнокомандующий Каменев. (См. «Из истории Гражданской войны в СССР. Т. II, Москва стр. 521.)
- Как раз в эти дни, 25 сентября, Патриарх Тихон обратился с посланием к духовенству, в котором он предписывал ему воздержаться от выражения сочувствия белым (служением молебнов, колокольным звоном и т. д.), так как это могло вызвать тяжёлые репрессии в случае возвращения красных. Конечно, патриаршее послание в то время было нам неизвестно. (См. Архиепископ Никон (Рклитский) «Жизнеописание Блаженного Антония, митрополита Киевского и Галицкого». Том VI, 1960 г. стр. 57.)