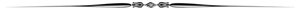Затуманится Русь… и взволнуется море и рухнет балаган.
Ф. М. Достоевский. «Бесы»
Мы постучали в дом. Вышел хозяин и впустил нас. Кроме него и его семьи в доме были расквартированы три солдата Самурского полка нашей Дроздовской дивизии. Мне советуют не входить сразу в тёплое помещение, этого нельзя делать при обморожении. Я остался в холодных сенях и стал растирать пальцы снегом. Потом сунул руки в ведро с очень холодной водой, чтобы они медленно оттаивали. Кроме рук, у меня оказались отмороженными пальцы правой ноги и немного левая. Но самому мне не было сейчас холодно, я даже согрелся. Постепенно стал отходить от долгого и тяжёлого ночного кошмара. От натирания снегом кожа пальцев стала сходить, обнаружилось отмороженное мясо, а по мере оттаивания пальцы разбухали и приняли лилово-багровый цвет, переходящий местами в чёрный. То же приблизительно и на правой ноге. Нечувствительность в пальцах сменилась трудно выносимой тупой болью, продолжавшейся свыше часа. Потом она смягчилась и в дальнейшем почти исчезла, кроме как на перевязках.
Нужно было думать о дальнейшем. С обмотанными в тряпьё руками и ногами меня, в сопровождении моего товарища дроздовца отправили в санях в Комендантское управление предместья Льгова. Погода, слава Богу, переменилась к лучшему. Была лёгкая оттепель, сияло солнце, тишина, как будто ночной метели никогда не было, только всё было завалено снегом. Молодой комендант встретил меня не самым лучшим образом, но потом смягчился и сказал: «Я могу Вас устроить в военный лазарет, но знаете, он переполнен, в нём двести раненных, не хватает кроватей, лежат на полу. Поэтому предлагаю Вам, устроить Вас, если хотите в городскую Льговскую больницу. Там будет спокойнее». Соглашаюсь.
Как меня учили в офицерской роте, сдаю винтовку в Комендантское управление и прошу дать мне расписку. Комендант выписывает мне бумагу и обращаясь к двум молодым военным говорит: «Вот, видите, перед вами настоящий доброволец, берите пример! Обморозил себе руки и ноги, но винтовки не бросил, а сдаёт коменданту». Молодые вытягиваются и отдают мне честь. Я растроган. Вот, наконец, каким странным образом я попал в герои. Но, мог бы принести ещё больше пользы, если бы меня обули и одели, то я бы сражался на фронте.
В городской больнице я тоже был встречен самым добрым и внимательным образом. Врачи, сёстры милосердии проявляли особую заботу, расспрашивали меня о делах на фронте. Доктор обрезал на моих руках совершенно отмороженные куски мяса, очистил раны, помазал мазью, посыпал порошком, перевязал. То же самое он проделал с моей правой ногой. В результате мои конечности превратились в забинтованные култышки, отчего я стал совершенно беспомощным. Я не мог сам ни есть, ни пить, ни ходить, разве только скакать на левой ноге. По прибытии в больницу мне переменили бельё, и я впервые, после двух месяцев, освободился от пожирающих меня насекомых. Меня поместили в палату, где кроме меня лежало около десяти больных. Всё местные льговские жители, многие из них молодые. Большинство — больные хроническими, трудно излечимыми болезнями (искривление позвоночника, суставной ревматизм, язва желудка и т. д.) В больнице, в общем хорошо организованной, был большой недостаток в лекарствах, так что больных было трудно лечить, чем они, естественно, были не довольны. Я много беседовал с больными. Все они состояли из горожан обывателей, провинциальных полу интеллигентов или ремесленников. Ко мне они относились дружелюбно, но несколько сдержанно, с осторожностью. Так в спокойной обстановке, я провёл первые два дня во Льгове, 30 и 31 октября.
Однако 1 ноября, на третий день моего пребывания атмосфера резко изменилась. Вокруг нас заговорили, что «Красные приближаются!» В городе началась поспешная эвакуация. По улицам тянулись бесконечные обозы со всяким скарбом и отступающими в спешке солдатами. Я сам всего этого видеть не мог, лежал, но мне это непрерывно рассказывали больные в палате и медсёстры. Тут я стал требовать от персонала о моей немедленной эвакуации. Они обратились в лазарет, но выяснилось, что уже эвакуировали всех раненных, а меня как лежащего в другом месте, просто забыли. Я понимал, что если город будет занят красными, то меня конечно вычислят, что я доброволец и немедленно расстреляют. Положение моё становилось трагическим. Меня нужно отправить на вокзал, в трёх верстах от города, но во всём Льгове невозможно найти лошадь, а добраться пешком я не могу. Больничный персонал прекрасно понимает в какой ситуации я оказался, а потому стараются как могут. Нашли лошадь в пожарной команде, посылают за ней человека, но по дороге какой-то военный насильно отнимает её, несмотря на все протесты служащего, который говорит, что она для раненного. Опять неудача! А тут тревожные разговоры: «Сегодня до темноты красные будут в городе!» Как я уже наблюдал много раз, настроения лежащих со мною больных изменяется по обстоятельствам. «Ну что ж, — говорит один из них, — значит, снова Советы. Ничего, жили при них, и опять поживём!» Слышаться и другие голоса, совсем странные: «Так эта война из-за земли вышла. Белые земли не дадут». И всё это с какой-то унылой покорностью, без всякого энтузиазма.
В отдалении слышится артиллерийская стрельба. Я всё более нервничаю, требую, чтобы меня эвакуировали, угрожаю, умоляю, почти плачу. «Понятно, — комментируют больные, — никому неохота, чтобы тебя убили красные». Больничный персонал делает всё, что в их силах, но откуда им взять лошадь? Ставят человека у входа в больницу, чтобы тот останавливал проезжающие подводы. Каждый раз просит захватить раненного дроздовца. Долгое время безрезультатно. Все спешат, паника, каждый занят собой.
В горе моём опять взываю к Богу. И снова ОН приходит мне на помощь! Внезапно в моей палате появляется дроздовец, (он очень похож на моего первого спасителя). Этому человеку стало известно, что я здесь лежу, у него лошадь, сани и он предлагает довести меня до вокзала. В первую минуту я просто не верю своим глазам и ушам, что это так на самом деле. Я конечно с радостью и благодарностью соглашаюсь. Прошу главного врача дать мне тёплое одеяло, а то я замёрзну в моей одежде, пока доеду до места. «Вы сами знаете, говорит врач, — как мы бедны во всём, но для Вас дадим, что можем». Действительно даёт мне несколько байковых одеял. Прощаюсь со всеми и мне помогают усесться в сани к дроздовцу. В отличие от первого моего спасителя, у этого сани с крестьянином-возницей. Меня закутывают одеялами, погода стоит мягкая, слегка тает и руки болят меньше.
Мы трогаемся, уже почти ночь. Подъезжаем к перекрёстку дорог, по пути к вокзалу. Дроздовец останавливает сани, говорит, что нужно выяснить, где именно стоит санитарный поезд. Я остаюсь один, с возницей, а дроздовец идёт к вокзалу.
Жду, и думаю о моём спасителе, я успел с ним уже разговориться. Как и первому, ему уже за тридцать. Солдат германской войны, давно в Добровольческой армии, старый дроздовец, воевал на Кубини против Красной армии. В его рассказах звучит покровительственный и поучительный тон по отношению ко мне. Он меня принимает за «необстрелянного» несмышлёныша, но из рассказов моих понимает, что я вполне понимаю задачи Добровольческой армии. Он ярый противник красных, доблестный, опытный воин, человек, всецело связавший свою судьбу с Белым движением. Но и в нём чувствуются признаки усталости и разложения, он многим не доволен и не представляет как будут развиваться дела на фронте. Отступает он не со своею частью, а в индивидуальном порядке, «драпает» (по военному выражению), везёт с собою запасы сахара и других ценных продуктов. «Поеду-ка я на Кубань, — говорит он, — хорошенько там отдохну. Там у меня в станицах много друзей, пускай молодые воюют. А к весне посмотрю, какое положение сложиться, может и вернусь на фронт. До Кубани красным никогда не дойти! Это уж точно!» Воевать ему надоело, хотя он вполне здоров, хорошо одет. Ему нужна передышка. А я ему всё же глубоко благодарен.
Проходит около часу, а мой дроздовец не возвращается. Я начинаю сильно беспокоиться, опасаюсь, что для моих рук такое долгое пребывание на холоде будет вредоносным. Проходит ещё полчаса, а его всё нет. Спрашиваю возницу, знает ли он дорогу, чтобы отвезти меня на вокзал. Тот говорит: на какой? Отвечаю: на главный. Едем, потом он вызывает людей с вокзала и меня полунесут, полуведут под руки. На вокзале меня помещают в большом станционном зале и кладут на стол. Рядом со мною лежат без сознания тифозные солдаты. Мне говорят, что санитарный поезд находится впереди на Льгове II (а мы на Льгове III) в ожидании раненных, но к утру он прибудет и заберёт нас.
Лежу всю ночь среди тифозных. Я было освободился от насекомых в больнице, а тут они во множестве переползают ко мне от соседних больных. Опять мрачные мысли: заболею тифом, а я так слаб, так исхудал, что не выдержу и умру. На вокзале группа беженцев: двое мужчин лет сорока и три женщины. Они хорошо одеты, в шубах, каракулевые шапки. По лицам и манере говорить и смеяться можно безошибочно сказать, что это дворяне-помещики. Но почему все бегут и никто не сражается? На меня смотрят с жалостью и с недоумением. В моём тряпье, с руками в белых култышках, без фуражки, им трудно понять кто я. Наконец, мужчина в каракулевой шапке подходит ко мне, спрашивает: «Скажите, пожалуйста, кто Вы? Военный? Раненый?» «Да, — отвечаю я, — обмороженный дроздовец». В двух словах рассказываю ему мою историю. «Но как Вас оставили на произвол судьбы? Почему не дали тёплой одежды, обуви, чтобы Вы себя не обморозили?» — «Меня не бросили, — ответил я, — это военные обстоятельства, отступление. А про одежду Вы правы. Я пошёл добровольцем, сражался и готов биться до конца, но без сапог, в таком виде, нет! Не по силам!» Он печально качает головой и спрашивает: «А у Вас есть родственники?» — «Да, в районе Белых армий (я не хочу говорить, что мой отец премьер-министр у ген. Врангеля), но я не смог ещё установить с ними связь. В этом трагичность моего положения. Моя фамилия Кривошеин». Какое-то движение заметно на лице мужчины, но он, ничего не сказав, отходит. У него свои заботы, о себе и семье. Помочь мне он сейчас не может, единственное, что мне сейчас нужно, это чтобы прибыл поскорее санитарный поезд.
Наконец, после долгого ожидания, часам к одиннадцати, подъезжает санитарный поезд. На календаре 2 ноября. Двое санитаров ведут меня под руки, я прыгаю, ковыляю на одной ноге, боли нестерпимые. На платформе пожилой полковник с двумя юными кадетами, вероятно сыновьями, — одному лет десять, другому двенадцать. Тоже беженцы. Увидев меня, полковник отдаёт мне честь. Тронут. Но видимо у меня настолько жалкий вид, что уже полковники отдают мне честь. Зачем нужно было меня доводить до такого состояния? Лицо полковника выражает сострадание и уважение. Юные кадеты вытягиваются и тоже отдают честь. Впрочем, никто не виноват, в моём положении. Война! Нужно терпеть.
В поезде меня помещают в последний вагон, все передние переполнены раненными, а у нас ещё свободные места. Санитар приносит хороший горячий обед и сам меня кормит, с моими забинтованными руками я не могу держать ни ложки не вилки. Приходит старшая сестра, справляется о моём состоянии. Рассказываю. «Как же Вы, — говорит она, — студент, интеллигентный человек, могли допустить, чтобы у Вас отморозило руки? Это стыдно! Вы должны были растирать их снегом». Я возмущён глупым замечанием: «При чём тут интеллигентность или не интеллигентность. У меня просто не было рукавиц, ни сапог, ни тёплой одежды. Фуражку унесло ветром, а голыми руками я тащил лошадь по метели, бурану и морозу! Конечно, я растирал снегом руки, даже кожа слезла. Может быть я не профессиональный воин, интеллигент и потому плохо приспособлен к военной жизни, но стремлюсь к нашей победе, а потому готов терпеть лишения. Но не я один в таком плачевном положении. У многих нет тёплой одежды и их заедают вши… а воевать так трудно. Боевой дух нужно поддерживать не только призывами!»
Совершенно неожиданно появляется мой дроздовец: « А я тебя давно ищу. Куда ты пропал вчера? Я нашёл санитаров с носилками, мы пришли за тобой, хотели отнести в поезд? » «Да я тебя ждал больше полутора часов! Больше не мог, стал мёрзнуть, ну и поехал на вокзал». Дроздовец не доволен: « Поторопился ты зря. А где мой сахар и другие вещи? » Признаться я о них совершенно забыл, когда приехал вчера на вокзал с возницей, то думал о другом. И вот сейчас он мне напомнил! «Осталось всё в санях», — отвечаю я. «Как так? Почему ты их оставил?» — «Забыл совершенно. Но ты мне не дал никаких указаний, что с ними делать». Дроздовец не верит, сердится, требует свои вещи. Тут и я рассердился: «Оставь ты меня в покое со своими вещами. Спрашивай их у возницы, у меня их нет. Если хочешь и дорожишь этим, то найдёшь, а у меня были нестерпимые боли и я думал только о том, как не попасть к красным». Он и сам видит, что вещей в вагоне нет. Спрашивает санитара, тот ничего не знает. Уходит недовольный. Понятно, что провалились его расчёты выгодно продать их в тылу. Отчасти я виноват в его потере и мне его жаль.
Наш поезд должен тронуться к вечеру, но уже в послеполуденные часы начинает чувствоваться тревога. Упорно распространяется слух, что состав слишком длинный и паровоз не сможет вытянуть его на подъёме. Последний вагон хотят отцепить и бросить. Я вижу, что легкораненые из моего вагона, постепенно один за другим перебираются в передние вагоны. В результате я остаюсь один вместе с санитаром. Сам то я идти не могу, а потому прошу и требую от него, чтобы он и меня перевёл в передние вагоны. Но он отговаривает, отказывается: «Да там всё забито, негде лечь. Совершенно зря беспокоитесь, всё это выдумки. Вас никто не бросит». Но я не уверен. Почему же тогда убежали отсюда все другие? А санитар, кто его знает? Может быть он желает остаться у красных. Слышу другие тревожные разговоры. Будто бы машинист нашего поезда сбежал, нашли другого, а рядом с ним на паровозе стал офицер с револьвером, дабы и этот не драпнул.
Часам к четырём дня слышится ружейная стрельба с северной стороны, за вокзалом. Ещё не особенно близко. Сразу начинается поспешная эвакуация. На станции, как говорят, стоят восемнадцать поездных составов, наш предпоследний, за ним поезд генерала Витковского, командира Дроздовской дивизии. Один за другим, пыхтя паровозами, проходят мимо нас поезда с промежутками в две-три минуты. Стрельба всё приближается и учащается. Впечатление, что стреляют одни наступающие красные, а сопротивления со стороны наших совершенно нет. Наш вагон как раз против вокзала, смотрю в окно. Пули сыплются градом на вокзальную платформу. Бегают и суетятся люди, вскакивают на ходу в отходящие поезда. Вдруг всё опустело, ни души.
Наконец толчок и наш поезд трогается. Но сразу останавливается. Слышно как пыхтит паровоз, колёса буксуют на месте, не могут взять подъёма. Потом набирают силы и делают ещё рывок. Безуспешно! И так несколько раз подряд. А между тем стрельба всё усиливается, пули красных ложатся совсем рядом с нами, но до вагона не долетают. Быстро стемнело и пошёл снег с дождём. Смотрю напряжённо в окно и думаю: что если отцепят вагон и бросят его? В какой раз, молю Бога о помощи и спасении! И в этот момент сильнейший толчок сзади. Это поезд генерала Витковского толкает нас, и, благодаря ему, наш паровоз берёт подъём. Мы едем, оставляя за собой Красную армию, которая без боя берёт вокзал. Те, кто был очевидцем рассказывали, как красные кричали «ура», а по другой версии, пели «Интернационал».
Мы проехали за ночь тридцать вёрст, и через два дня наш санитарный поезд благополучно прибыл… в Харьков (62).
В. А. Кривошеин
Брюссель, 1975 г.
Примечания
- Это не совпадает с рассказом полковника Туркула, который пишет, что когда красные ворвались во Льгов, в больнице было «до сотен наших раненых» (стр. 143). Не знаю, как объяснить такое разногласие. Может быть, мне сказали неправду, что раненые уже эвакуированы?
- Допускаю, что это было начало метели, о которой пишет полковник Туркул, в которую он попал с его Первым Дроздовским полком. Всю следующую ночь, пока мы ехали в поезде, шёл сильный снег.
- Привожу описания советских средств информации о боях за Льгов: «Красные ударные группы, прорвав фронт противника на 70 вёрст, нанесли огромный урон деникинским офицерским полкам. Конная Червонная казачья дивизия Примакова, пройдя с боем в 3 дня 158 вёрст, изрубила 800 деникинцев… Противник бежит в панике, оставляя телефонные и телеграфные аппараты» (от штаба 14-ой кр. армии 27 окт./9 ноябр.) «Лучшие полки противника, Дроздовские и Самурский, так называемая «белая гвардия», разгромлены благодаря смелому удару красной конницы т. Примакова. Все полки противника, за исключением Первого Дроздовского, потеряли артиллерию и обозы. При занятии Льгова нашей конницей захвачено 6 орудий, 12 пулемётов, 800 пленных, 3 тысячи снарядов, масса патронов, 8 паровозов и вагоны. Два бронепоезда противника отрезаны. Идёт бой за захват их. Местами противник бежит, не оказывая сопротивления» (телеграмма Орджоникидзе Ленину от 7/20 ноября). Однако Льгов был вновь взят полковником Туркулом 3 ноября, переходя из рук в руки «червонные» понесли большие потери от Первого Дроздовского полка, у железнодорожного моста через Сейм и у вокзала. О гибели наших бронепоездов «Иван Калита» и два других, мы услыхали в санитарном поезде на следующий день по отъезде из Льгова. Их пришлось уничтожить, так как нельзя было их спасти из-за преждевременного взрыва нашими войсками моста через Сейм (Туркул, стр. 144-146).