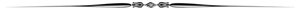Таковы были в общих чертах мои отношения с митрополитом Николаем за период между 1951 и 1956 годами моей жизни в Оксфорде. Лично с ним встретиться и познакомиться мне пришлось только летом 1956 года, во время моей поездки в СССР, где я побывал впервые после 36-летнего перерыва. Группа паломников Западно-Европейского Экзархата, в состав которой входили архимандрит Дионисий Шамбо, В. Н. Лосский, Д. Д. Оболенский и Оливье Клеман, была приглашена Московской Патриархией посетить Советский Союз. В эту группу был включён и я. Мы пробыли в России от 9 до 16 августа, посетили Москву, Троице-Сергиеву Лавру, Владимир, Ленинград и Киев.
Это был, пожалуй, самый лучший, но короткий, период (может быть год) в жизни Русской Православной Церкви после революции, когда ослабел террор, возвращались лагерники, шла десталинизация, но Хрущёв ещё не захватил полноты власти и не было признаков нового нажима на Церковь, который выявился с новой силой в конце 50-х годов. Настроения в церковных кругах было оптимистическое и бодрое, говорили об открытии новых храмов, семинарий и т. д.
Патриарха мы в этот приезд не видели, он отдыхал в Одессе, но с митрополитом Николаем встречались и беседовали несколько раз. Он принял нас мило и ласково вскоре после нашего приезда в помещении Патриархии в Чистом переулке. Беседовал сначала со всеми вместе, а потом с каждым членом группы в отдельности. Живо интересовался церковной жизнью на Западе. Его пастырское сердце, видимо, было уязвлено печальным случаем с молодым иеромонахом англичанином Серафимом Робертсом, очень одарённым и подававшим большие надежды, но потом всё бросившим и женившимся. Митрополит Николай расспрашивал, как это могло случиться. Ещё более огорчало его дело протоирея Евграфа Ковалевского, которого он высоко ценил, и которому симпатизировал. «Нет ли надежды на его возвращения в нашу Церковь?» — спрашивал он.
В частной беседе со мною мы много говорили об Афоне, и мне отрадно было встретить у митрополита Николая редкое у современных русских иерархов знание и понимание афонских дел. На его вопрос, чем конкретно мы можем сейчас помочь русскому монашеству, я ответил: «Добиться от греческого правительства разрешения на приезд из России десяти человек с целью стать монахами в Пантелеймоновском монастыре. Больше десяти для начала не надо просить, это может испугать греческие монастыри и гражданские власти, что менее всего желательно. Группе совсем маленькой, будет труднее ужиться, да они и не смогут обновить пришедшую в упадок монастырскую жизнь. Нам будет трудно отказать, так как наше требование допущение монахов из России освящено многовековой традицией, международными договорами, и греческому правительству будет не легко принять отрицательное решение, хотя оно, и будет пытаться это делать. Важно только действовать в рамках законов и через Вселенскую Патриархию».
Далее я развил свои мысли митрополиту Николаю и сказал, что: «Что было бы ошибкой возбуждать вопросы о пересмотре афонского Положения, имеющего силу закона, хотя он и во многом несправедлив. В это входит, что пришлось бы оспаривать юрисдикцию Константинопольской Патриархии, греческое подданство русских монахов и многое другое. Этими действиями мы только бы вооружили против себя как греческих афонских монахов, так и вообще общественное мнение, и в результате всё бы провалилось. Во всяком случае, греческое правительство нашло бы в наших притязаниях предлог для отказа допустить приезд монахов из России. Важно на сегодня одно: добиться приезда первой группы русских монахов, а иначе на Афоне русское монашество погибнет, после чего Пантелеймоновский монастырь перейдёт к грекам, после чего вернуть его назад будет не возможно».
Митрополит Николай вполне согласился со мною и подчеркнул, что оспаривать существующее Афонское законодательство, тем более юрисдикцию Вселенской Патриархии над русскими обителями на Афоне не следует: «Раз в старое время они были в ведении Вселенской Патриархии, то, как же мы можем требовать, чтобы теперь было иначе. Всё, к чему мы стремимся, это допущение русских монахов на Афон и это наша основная задача».
Я был рад такому пониманию и тонкое вникание в афонскую обстановку митрополитом Николаем было «редкостью». Ибо в предыдущем 1955 году, мне пришлось беседовать на ту же афонскую тему с находившимся тогда в Лондоне митрополитом Питиримом (см. выше). Я ему сказал приблизительно то же самое, но реакция его была совсем другая. Митрополит Питирим тогда резко прервал меня, ударил рукой по столу и с раздражением сказал: «Нет, это не так. Афонский вопрос обсуждался у нас в Синоде, и было постановлено требовать подчинения афонских русских обителей нашей юрисдикции!»
«Но ведь это не возможно»,- возразил я тогда.
«Мы так постановили», — настаивал митрополит Питирим.
Видя, что с ним совершенно бесполезно спорить, я прекратил разговор, огорчённый мыслью, что наши иерархи по собственному незнанию дипломатии в этом вопросе и упрямству провалят дело русского монашества на Афоне.
Тем более сейчас мне было радостно удостовериться в широте взглядов и глубокому пониманию этой деликатной темы у митрополита Николая. Он был готов выслушивать мнения лиц, которые в силу собственного опыта знали обстановку на месте.
Мы встретились с митрополитом Николаем ещё раз, и он наградил меня крестом с украшениями. Такой крест носят обычно архимандриты, хотя у меня ещё не было даже обыкновенного золотого креста. «Это Вам от Святейшего Патриарха, я говорил с ним по телефону, он в Одессе. И не говорите, что это Вам не по сану (я был тогда иеромонахом), патриарх благословляет Вас, его носить». Любопытно, что когда через несколько дней мы посетили в Киеве в Покровском монастыре сестру Патриарха, матушку Ефросинию, она сделала мне замечание, что я ношу крест не по сану. Я объяснил ей, что это подарок и благословение самого Святейшего Патриарха, чему она была крайне удивлена.
Мы виделись с митрополитом Николаем ещё раз накануне отъезда на банкете в гостинице «Советская» (бывший «Яр»). Банкет устраивался в нашу честь. Уже наступил Успенский пост, к тому же была пятница. И угощение было строго постное, даже без рыбы, но очень обильное, разнообразное и изысканное. Митрополит Николай был милым, гостеприимным и заботливым хозяином. В своей речи он приветствовал каждого из нас, равно как и всю делегацию в целом как представительницу Западно-Европейского экзархата. Выступление его было строго церковным, никакой политики или даже намёка на «борьбу за мир». Меня он называл «наш милый афонец».
После столь долгого моего отсутствия в России, при первом посещении уже СССР, мне трудно было сразу наладить близкие отношения с лицами, которые говорили бы с вами откровенно, и вместе с тем были бы церковно осведомлены. Тем не менее и сейчас, по прошествии многих лет и в свете опыта дальнейших поездок, я продолжаю думать, что наши тогдашние впечатления были в общем верными: Церковь вела тогда относительно спокойную и сравнительно благополучную жизнь.
Скажу в заключение, что за всё наше пребывание в России в 1956 году мне не пришлось говорить с митрополитом Николаем о положении самой Церкви в СССР, сам он этого вопроса не касался, а я не спрашивал, и вообще наши встречи и беседы носили хотя и сердечный, но несколько поверхностный характер (кроме бесед об Афоне). То же самое могу сказать и о большинстве наших встреч и контактов во время поездки.
***
По возвращении моём в Англию моя переписка с митрополитом Николаем продолжилась и несколько даже участилась. Он отвечал на мои поздравления к пасхе и к рождеству, иногда даже довольно длинными и сердечно написанными письмами, интересовался афонскими делами и выражал мне признательность «за внимание и заботу, которые Вы уделяете вопросу о пополнении монастыря Великомученика Пантелеймона на Афоне русскими монахами» (письмо от 12 января 1957 года).
Я получил также от него письмо с благодарностью моего описания поездки в августе-сентябре 1957 года в Грецию и Константинополь. В этом письме я рассказывал митрополиту Николаю мой разговор с Вселенским Патриархом Афинагором о Финляндской Церкви. (Этот разговор был начат по его инициативе, так как моя поездка на Ближний Восток носила чисто учебно-богословский характер по изучению рукописей преподобного Симеона Нового Богослова, а, следовательно, я избегал какой-либо церковной инициативы, так как не был уполномочен на это Русской Церковью). Так вот, митрополит Николай от 31 декабря 1957 года отвечал: «Мне приятно, что Вселенский Патриарх Афинагор, удовлетворён разрешением вопроса о Финляндской Православной Церкви. Мы намерены и впредь проводить такую же линию при разрешении подобных вопросов, ожидаем, что и по отношению к нам будет проявлено благорасположение, в частности, разрешён вопрос, по которому до сих пор не имеем от Константинополя ответа. Мы примем во внимание Ваши советы, вызванные заботой о благе нашей Святой Церкви».
Наша переписка с митрополитом Николаем была интересной и разносторонней. Живой и благожелательный интерес он проявлял и к моей работе по изданию творений преподобного Симеона Нового Богослова. Дело в том, что в Москве в Историческом музее находится одна из наиболее ценных рукописей «Огласительных слов» преподобного Симеона Нового Богослова. А без нее критическое издание греческого текста было не мыслимо. Я много лет (1952-1956) всеми способами пытался получить микрофильмы или фотокопию этой рукописи, но все попытки, в том числе и через британское посольство в Москве, оставались тщетными. Исторический музей или не отвечал на мои письма или сообщал, что рукопись находится в таком состоянии, что фотографировать её технически невозможно. Впоследствии я убедился, что это была не правда, а чистый предлог и отговорки. Во время пребывания моего в Москве в августе 1956 года я лично посетил рукописный отдел Исторического музея, убедился, что рукопись находится во вполне удовлетворительном состоянии и что отмалчивания или отказы дирекции Исторического музея объясняются фактом, что в нём нет установки для микрофильмирования рукописей, в чём музей стеснялся признаться. Единственная возможность была фотографирование обычным аппаратом, он в музее имелся, но ввиду объёма самой рукописи (около 200 листов) это обошлось бы очень дорого.
Я обратился к митрополиту Николаю с просьбой помочь мне в получении фотокопий, и он обещал мне в содействии. И вправду, через восемь месяцев в марте 1957 года, я получил в Оксфорде прекрасные фотоснимки нужной мне рукописи, за что глубоко благодарен митрополиту Николаю. Он сделал возможным окончание моей работы.
Интересно, что впоследствии один из критиков и недоброжелателей митрополита Николая, говорил мне, когда я ему рассказывал о замечательной помощи в деле получения фотоснимков рукописи: «Вы думаете, митрополит Николай помог Вам? Ошибаетесь, он всегда только обещает и потом ничего не делает. Ваше дело так и тянулось бы без конца, если бы не один из молодых сотрудников Патриархии, питомец Московской Духовной академии, из простого желания Вам помочь не взялся по своей инициативе за дело. Он сам бегал в Исторический музей, хлопотал и в результате всё устроил». Мне показалось такое суждение просто не серьёзным и несправедливым. Вполне допускаю, что митрополит Николай поручил практическую сторону дела молодому человеку (что логично), нельзя же требовать от митрополита, чтобы он сам бегал в музей и делал фотокопии. Но была и другая сторона дела, а именно финансовая, в разрешении которой я ещё более обязан митрополиту Николаю. За исполнение фотокопий мне назвали фантастическую сумму в 20 000 тогдашних рублей (около 2000 долларов), которыми я не обладал. И необходимо было особое постановление Священного Синода для её ассигнования. Митрополит Николай сделал все возможное, и такая сумма была выделена.
Пришлось мне иметь дело с митрополитом Николаем и в вопросе посылки на богословские и ученые конгрессы русских богословов из Духовной Академии, бывшей России. Главным образом на съезды патрологов в Оксфорде, которые проходили в 1955 и 1959 годы и на съезд византологов в Мюнхене в 1958 году. Помню, как я неоднократно писал митрополиту Николаю, какое значение имело бы для богословов общение с представителями западной науки и как это повысило бы уважение к Русской Церкви на Западе. Со своей стороны я обращался с просьбой к организаторам съезда патрологов доктору Кроссу, к епископу Михаилу (Чубу) и к проф. Н. Д. Успенскому о приглашении Московской и Ленинградской академий коллективно, но и отдельным богословам в частности. Большого успеха я не добился. В результате на съезд патрологов в 1955 году были присланы от Ленинградской Духовной Академии профессора Л. Н. Парийский и Зборовский, которые не знали ни одного иностранного языка. В результате чего они не могли активно участвовать в работе съезда. Более того, к сожалению, не приехал епископ Михаил (Чуб), теперешний епископ Воронежский и Липецкий, хорошо знающий европейские языки и много работавший над творениями Мефодия Олимпского. Он был наиболее подходящий для участия в съезде, желавший приехать и персонально приглашённый… но на съезд он не прибыл. Почему? Это меня огорчало и приводило в недоумение: как митрополит Николай со своим умом и пониманием дел не сознает, что участие епископа Михаила в съезде патрологов справедливо и полезно для Церкви! Возможно, что на приезд делегации в таком составе повлияли другие факторы, не зависящие от митрополита Николая. Об этом я мог только домысливать позже.
Дело в том, что ещё за два месяца до съезда на одном из приёмов, устроенных в честь прибывшей в Англию делегации во главе с митрополитом Питиримом, я встретился случайно с одним человеком. Это был некто Тихвинский, советник советского посольства в Лондоне. Приём, на который я был приглашен, устраивался англиканцами и происходил не в здании советского посольства. Узнав, что я русский он сам подошёл ко мне и завел разговор. Это был довольно развязный господин, совершенно невежественный во всём, что касается Церкви и религии. (Более того, впоследствии, я прочитал в газетах, что он был выслан из Америки и его перевели на «работу» в Лондон за действия не совместимые со званием дипломата.) В разговоре со мной он задал мне вопрос, какое впечатление производит на англичан прибывшая церковная делегация. Я, конечно, дал о ней самый лучший отзыв и, воспользовавшись, случаем, стал рассказывать о предстоящем съезде патрологов. Говорил ему о важности присутствия представителей наших Духовных Академий и как это подымет престиж Русской Церкви в Англии, и тем самым… «Советского Союза». Последнее, я сказал специально для «красного словца» понимая с кем, имею дело, чтобы заинтересовать Тихвинского. Мне долго пришлось ему толковать, что такое патрология и прочие тонкости, которые он с трудом понимал. Потом он вдруг спросил: — «А какое всё это имеет отношение к новому догмату об обожествлении девы Марии?» (видимо он имел в виду римско-католический догмат об Успении, недавно провозглашённый Папой).
«Никакого, — ответил я. — То римско-католический догмат, а это учёный съезд богословов разных вероисповеданий». Тихвинский после этого явно успокоился. Дело в том, что отношения советской власти к Ватикану в то время было крайне враждебным.
«А Вы считаете, что наши богословы окажутся на том же уровне, как и западные?»
Тут я немножко «покривил душой» и ответил, что в общем, да (хотя, честно говоря, был далеко не уверен).
«А от кого зависит присылка богословов? — спросил советник Тихвинский.
«От Московской Патриархии, конечно. Но если бы советское посольство в Лондоне написало бы в Москву, что подобный приезд и участие в съезде желательно, то, безусловно, дело было бы сильно облегчено».
«Хорошо, — сказал Тихвинский. — Постараемся это устроить».
Повлияло ли это на ход событий и состав приглашённых, решительно утверждать трудно; вероятно в известной степени, да. Жаль только, что отсутствовал епископ Михаил (Чуб). Поэтому, когда я встретился с ним в 1958 году в Лондоне, где он совместно с тем же митрополитом Питиримом представлял Русскую Церковь на Ламбертской конференции, я спросил его, почему он не приехал на съезд патрологов и сказал ему как я был огорчён. Разговор наш происходил наедине в комнате гостиницы «Сен-Джеймс», где он остановился.
«Меня не пустил митрополит Николай»,- сказал он.
«Почему» — удивился я.
Епископ Михаил пугливо (вероятно по привычке), оглянулся по сторонам, отодвинул свой стул в центр комнаты, как бы опасаясь скрытых в стенах микрофонов, и начал мне говорить вполголоса:
«Прошу только, никому не рассказывайте то, что я Вам скажу. Митрополит Николай при всех своих несомненных достоинствах и талантах имеете одну ахиллесову пяту, которая всё портит. Это его чрезмерное тщеславие! Желание быть всегда не только первым, но единственным. Посмотрите в ЖМП, там печатаются только его проповеди, они талантливые, но разве нет в Русской Церкви других хороших проповедников? Так и на всех съездах и конференциях. Он хочет всюду фигурировать один! А так как он всё же сознаёт, что для съезда патрологов его личная кандидатура не подходит, то предпочитает, чтобы никого не было, а меня особенно. Он меня буквально не пустил!»
Я был поражён. Конечно, архиепископ Михаил — человек довольно субъективный и несдержанный на язык, но правдивый и благородный. Характеристику его я не мог вполне отвергнуть, самое большее он преувеличивал. Впрочем, и он признавал за митрополитом Николаем большие достоинства.
Любопытно, что много лет спустя я прочитал в № 4 журнала «Наука и религия» за 1969 год воспоминания известного ренегата, бывшего священника Осипова, под названием «Мои архиереи»,- воспоминания эти написаны были без любви и в безбожном духе. Были соблюдены некоторые приличия и минимальная объективность. И когда он в своих писаниях вспоминает митрополита Николая, то отмечает в нём ту же черту чрезмерного тщеславия и почти буквально повторяет, а этом отношении мнение архиепископа Михаила (Чуба).
***
Довольно неожиданно в начале февраля 1957 года я получил письмо от нашего Экзарха, архиепископа Николая (Ерёмина). Он мне сообщал, что «По представлению Высокопреосвященного митрополита Николая, в воздаяние за Ваше учёно-богословские труды, резолюцией Его Святейшего Патриарха Алексия от 25 января 1957 года Вы награждаетесь саном архимандрита».
Это было «довольно неожиданно» для меня! Так как в награждении меня архимандричьим крестом за полгода до этого в Москве уже, можно было, усмотреть намёк на желание Патриархии возвести меня в сан архимандрита. Но всё же это было неожиданностью для меня. Я об этом не думал, а главное, принято было сначала возводить в сан игумена, а потом только в архимандриты. (Патриархия же сразу возводила меня в более высокий сан, минуя промежуточный «этап».) И далее, в моём случае инициатива принадлежала всецело митрополиту Николаю, хотя право награждать саном архимандрита в нашем Экзархате принадлежала в то время только самому Патриарху, было бы более обычно, чтобы представление об этом исходило от Экзарха. Но Экзарх до получения указа Патриарха не был даже осведомлён об этом неожиданном шаге митрополита Николая.
Иначе обстояло дело с моей епископской хиротонией. Инициатива здесь принадлежала нашему Экзарху, архиепископу Николаю (Ерёмину). Он после разговора со мною в конце 1957 года обратился в Патриархию с просьбой о назначении меня своим викарным епископом во Франции. Какая в точности была позиция митрополита Николая в этом вопросе, мне не известно. Быть может даже, что Экзарх с ним предварительно советовался, хотя вряд ли. Можно думать, что митрополит Николай поддержал ходатайство Экзарха после того, как в апреле 1958 года Францию посетила негласная ревизионная комиссия от Патриархии. Официально она называлась «группа паломников», в её составе были протоирей Статов и А. С. Буевский (секретарь митрополита Николая и его помощник по Отделу внешних церковных сношений). С этой «комиссией» я встречался в Париже в один из моих приездов из Оксфорда.
Как бы то ни было, 26 мая 1958 года последовал указ о назначении меня вторым викарием Экзарха в Западной Европе, с пребыванием во Франции (первым был епископ Антоний (Блум), теперешний Экзарх).
В своём препроводительном письме (от 10 июля 1958 года), пересылая мне указ, митрополит Николай поздравлял меня с «призванием на великое архипастырское служение». Хиротония моя состоялась в Лондоне 14 июля 1959 года с некоторым запозданием из-за необходимости уладить трудности с получением французской визы.
Эти трудности огорчали митрополита Николая. Его искренне заботила мысль о моём «местопребывании, где удобно было бы Вам совмещать архипастырскую деятельность с научными занятиями», так он писал мне в письме от 9 марта 1959 года.
Выход был найден и в ноябре 1959 года я переехал на жительство в Париж.
Теперь, хочу рассказать, как происходило моё назначение епископом Брюссельским и Бельгийским. Инициатива этого назначения, после кончины митрополита Александра (Немеловского) в Брюсселе 11 апреля 1960 года, в сильной степени принадлежала нашему Экзарху — архиепископу Николаю. Но она даже вызвала некоторое противление со стороны митрополита Николая, который желал назначить на брюссельскую кафедру своего старого знакомого, (он ему покровительствовал) венского архимандрита Арсения (Шиловского). Экзарх, ездивший в Брюссель на похороны митрополита Александра и ещё вторично для ознакомления с положением и настроениями тамошней паствы, сознавал, что всякое промедление с нахождением и назначением заместителя почившего митрополита Александра (Немеловского) может иметь опасные последствия. Это было связано с многочисленными посягательствами раскольников на наш брюссельский храм Святителя Николая.
Экзарх знал также, что верующие просили, его о назначении к ним именно меня, и в связи с этим был очень обеспокоен, что Патриархия медлила с решением и ничего не отвечала на его ходатайство. И когда А. С. Буевский позвонил к нему по какому-то делу, он начал спрашивать его, почему замедляется моё назначение, говорил и объяснял как это опасно для церковного положения в Бельгии.
Буевский вдруг ответил: «Да, конечно, владыка Василий вполне достойный и подходящий кандидат, но знаете, что имеются и другие кандидаты на брюссельскую кафедру».
«Какие?»- спросил Экзарх.
«Да вот, например, архимандрит Арсений».
«А Вы знаете, какой у него паспорт?»- продолжал Экзарх.
«Нет» — ответил Буевский.
«Советский! Это совершенно неприемлемо для брюссельских прихожан. Смотрите, Вы провалите всё, если будете медлить и не назначите владыку Василия».
«Как хорошо, что Вы нам это сказали, мы это примем во внимание».
Так закончился этот телефонный разговор с Москвой, и действительно, Указом Священного Синода от 31 мая 1960 года я был назначен епископом Брюссельским и Бельгийским. И одновременно Брюссельско-Бельгийская епархия включилась в состав Западно-Европейского Экзархата. Вскоре я переехал в Брюссель.
Интересно отметить, что копия Указа была подписана архимандритом Николаем (Ротовым), будущим митрополитом Ленинградским. Тогда он был управляющим делами Патриархии (и заместитель митрополита Николая по Отделу внешних церковных сношений). О встречах и долгих беседах с ним я расскажу отдельно.