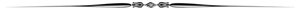В публикуемом ниже тексте Владыка Василий рассказывает подробности визита в Бельгию и встречу с папой Иоанном Павлом II, которая происходила в мае 1985, в год кончины Архиепископа. Для современно читателя приоткрывается интересная страница тогдашних взглядов и настроений между Русской Православной Церковью и Ватиканом
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Филарету митрополиту Минскому и Белорусскому Председателю Отдела Внешних Церковных Сношений московской Патриархии
30 мая 1985 г. Брюссель
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!
Как Вы несомненно знаете из сообщений прессы или по радио, римский папа Иоанн Павел II совершил в середине текущего месяца мая поездку по Голландии, Бельгии и Люксембургу. Все эти папские путешествия, настоящее уже 26-ое заграничное, настолько в общем похожи одна на другую и всем начинает надоедать, что я не стану его подробно описывать, ограничусь тем, что касается Бельгии и особенно Православия… Для нас православных главным интересом имело так называемое «икуменическое моление» или «встреча» с папой организованное малинско-брюсельским архиепископом кардиналом Годфридом Даниеельс в субботу 18 мая в малинском кафедральном соборе. На неё были приглашены возглавители и представители различных вероисповеданий, сами римо-католики, православные, англикане, протестанты.
Протестанты однако отказались от каких бы то ни было встреч с папой, находя, что всему папскому путешествию придают какой-то триумфальный характер, что оно связано с громадными расходами, на которые ропщет население («Папа верни нам наши гроши!» — так гласили многие надписи на стенах или лозунги на знамёнах манифестантов) и что вообще подчёркивается положение папы, как «Всемирного епископа». Протестанты отчасти правы, но мы решили участвовать во встрече, поскольку она не носит литургического характера и наше участие было бы свидетельством о Православии в Бельгии. Англикане тоже участвовали, но для них характерно крайнее папо-поклонство и вообще преклонение перед Римом.
После предварительного обсуждения у меня в архиерейском доме с участием греческого митрополита Пантелеимона и католического аббата Дешан ответственного за отношения с православными, была выработана программа совместного участия православных, католических и англиканских представителей. Аббат Дешан заявил от имени Ватикана: «что активного участия, в смысле чтения библейских текстов, не должны принимать бывшие католики, принявшие православие, папа этого не хочет, но молча участвовать могут». На это я сказал, что и бывшие православные и униаты тоже не должны ничего говорить, и аббат Дешан с этим согласился.
Через несколько дней я получил приглашение от кардинала Данеелься возглавить делегацию от Русской Православной Церкви в Бельгии, Московской Патриархии, из пяти человек. Мною были назначены следующие: 1. Архимандрит Иосиф (Ламин) — 2. Протоиерей Нестор Фриппиа — 3. Протоиерей Михаил Старк — 4. Протодиакон Сергий Рейнгард — 5. Диакон Михаил Городецкий. Подобные делегации были составлены (10 от митрополита Пантелеимон, 5 от «вагнерианцев» (подчиняющиеся парижскому архиепископу Константинопольского Патриархата Георгию Вагнеру), священники Румынского и Болгарского патриархатов в Брюсселе и двое от «карловчан» (РПЦЗ): священник Стефан из Голландии и староста Храма Памятника В. Апраксин.
В 8 ч.30 мин. утра в субботу 18 мая мы прибыли в католический собор Малин.
Интересная подробность, отмеченная многими: когда наша делегация входила в собор, до начала службы, собравшиеся нам аплодировали (как и бывшему примасу Бельгии кардиналу Сюненсу) и больше никому, ни митрополиту Пантелеимону, кроме, разумеется папе, когда он вошёл в собор.
Из православных делегатов только митрополит Пантелеимон и я были размещены на трибуне, куда должен был прийти папа Иоанн. Мы встретили его по программе у гробницы кардинала Мерсье вместе с другими католическими епископами. Папа попытался меня обнять, но я уклонился. На возвышенном месте, как называют латиняне — подиум, где папа занял центральное место, правее от него митрополит Пантелеимон, далее я, а ещё далее англиканин.
Поздоровавшись со мною папа сказал по-русски «Здравствуйте!» и чуть подумав добавил «Мир тебе», потом сразу переправил себя «Мир Вам!»
Икуменическое моление началось с того, что митрополит Пантелеимон прочитал по предложенному тексту по-французски молитву Пресвятой Троице (он плохо говорит по-французски и с акцентом, но особых ересей или Филиокве в ней не было) Далее с аналоя библейские чтения: ветхозаветное (Завет Бога с Авраамом-радуга) читал по-английски англиканин. Новозаветное, послание к Ефесеям — «Христос есть мир вам…» читал по-французски наш протодиакон о. Сергий. Наконец евангельское от Луки «Преображение Господне…», читал по-фламандски какой-то католический аббат. Должен сказать, что из трёх читавших хорошо читал только наш протодиакон о. Сергий Рейнгард, внятно, громко, приятным голосом. После службы многие из народа подходили к нему, благодарили за чтение и говорили, что его единственного можно было понять, другие что-то бубнили непонятное.
Далее была проповедь папы Иоанна. Слишком долгая, 20 минут. Он пытался блеснуть знанием фламандского языка, который он видимо спешно изучал перед поездкой в Голландию и Бельгию, но получилась некая неловкая смесь фламандского с немецким, так что один бельгийский профессор Лувенского университета мне жаловался, что не мог хорошо понимать речь.
Я тоже плохо разбирал его речь, хотя частично папа говорил по-французски, с некоторыми вариантами. Церемония в соборе продолжалась около часа. Папа вышел из собора и направился посетить ратушу, а мы, т. е. митрополит Пантелеимон и я, пошли в почти рядом находившийся архиепископский дворец. Меня сопровождал только диакон о. Михаил Городецкий, остальные должны были ждать на дворе. Нас провели через длинную анфиладу комнат со столами заполненными грудами пустых тарелок в ожидании католических епископов, приглашенных на завтрак к папе, но нам предложили только по чашке кофе. Вскоре вышел в приёмную папа, нас собралось человек 10-15, среди них шеветонский приор Мишель Ван Парейс. Папа стал обходить собравшихся, беседуя с каждым по несколько минут, его сопровождал кардинал Данеельс. Нас предупредили, что никаких речей не будет, просто беседа.
Подойдя к митрополиту Пантелеимону папа спросил сколько у него православных греков. «27 000 тысяч» — ответил тот. После него папа подошёл ко мне. Сопровождавший папу епископ Хиар из города Турне, начал по своей инициативе, говорить ему, что я патролог и в частности написал книгу о Преподобном Симеоне Новом Богослове. Воспользовавшись случаем, я поздравил папу с днём рождения ( действительно оно было в этот день) и подарил ему мою книгу о Симеоне Новом Богослове по-французски и с надписью: «Его Святейшеству папе Иоанну Павлу II, с братским уважением ко дню рождения» Папа спросил какую патрологию я изучаю, русскую? — «Преимущественно греческое святоотеческое богословие древнего и византийского периода вплоть до Григория Паламы». Далее из разговора выяснилось, что папа абсолютно ничего не знает о пр. Симеоне, ни когда он жил, даже имени его он никогда не слыхал! (Это очень характерно для поляков, впрочем не всех, я встречал и другого типа поляков знающих православную аскетику, но это редкость и папа видимо к ним не принадлежит). Потом разговор перешёл на другие темы. Папа спросил «Есть у вас церковь?». Я ответил «Даже несколько, одна наша русская, где служат по церковно-славянски, другая, где служат по-французски или по- фламандски». Потом был вопрос «А есть у вас украинцы и белорусы?» — «Мы не делаем таких разделений. Есть среди наших прихожан лица с чисто украинскими фамилиями, но для нас они те же русские православные, мы единые, К тому же, слово «украинец» и «Украина» слова модерные и их не существовало до 16 века. Древнее слово «Русь» и все мы единые православные». «Да, это так» — с неохотой согласился папа и разговор на этом закончился. Больше с папой мне не пришлось видиться, из его окружения я обменялся немногими словами с кардиналом Казаролли и кардиналом Иоханнесом Виллебрандом и проч.
Подводя итоги этой встрече, скажу, что папа был с нами, православными, корректен, даже любезен, но скорее сдержано холоден, видимо всецело закреплён в своих латино-польских убеждениях. Но это не причина, чтобы начинать против него войну, достаточно если мы будем строго держаться полноты Православия и не слишком увлекаться икуменизмом. А для нашей Церкви в Бельгии наше участие во встрече с папой принесло пользу. Может быть даже содействовало и ускорило признание Православной Церкви в Бельгии Бельгийским Государством!
Испрашиваю Ваших братских молитв и остаюсь Ваш во Христе † Василий
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский
P.S. Простите за ошибки, у меня нет секретаря, сам пишу на машинке, а переписывать во второй раз нет ни времени ни сил
* При перепечатке с оригинала соблюдена орфография автора.

*) Доклад прочитанный на французском языке, на Икуменической конференции в римо-католическом монастыре Шеветонь, в Бельгии, 1 сентября 1965 г.
Общее впечатление, которое, Догматическое Постановление Второго Ватиканского Собора «О Церкви («De Ecclesia») производит на православного верующего, глубоко противоречиво. Это впечатление усиливается по мере того, как он вчитывается в этот текст; ему представляется все менее возможным согласовать между собой по существу те противоречивые утверждения, которые он в нем находит и прийти к общей оценке, найдя связный синтез его содержания. Но изучив более внимательно Догматическое Постановление, он замечает, что авторы этого текста пытались и даже сумели в известной мере придать ему своего рода внешнее и одностороннее единство, не уменьшающее однако, общего противоречивого впечатления, которое он производит на православного читателя. Тот, кто следил за работами Второго Ватиканского Собора понимает, что эти внутренние противоречия Догматического Постановления «О Церкви» в большой мере объясняются существованием на соборе очень различных богословских течений, которые надлежало согласовать между собой, удовлетворяя каждое из них. Однако, это объяснение исторического характера не может, в глазах православного читателя, оправдать все то, что в этом тексте противоречиво и неприемлемо. Мы попытаемся пояснить наше общее впечатление при помощи примеров, взятых из текста Догматического Постановления и анализа его содержания с православной точки зрения.
I
Впечатление, которое производит в целом первая глава, «Таинство Церкви», или точнее первые ее семь параграфов, очень хорошее. Православный верующий искренне радуется тому, что этот текст говорит уже не о «природе» Церкви, как говорилось в первой схеме, а о «тайне». Эта тайна, которую невозможно выразить при помощи понятий, раскрывается в «образах Церкви, которые мы находим в Ветхом п Новом Завете: овчарня, поле, виноградник, в особенности Тело Христово, членами которого мы становимся действием Духа Святого будучи объединены между собою и соединены с Главою Тела — Христом. Мы соединяемся со Христом и становимся сотелесниками Ему прежде всего в евхаристическом причастии.
Можно пожалеть только, что эти прекрасные тексты об евхаристическом причастии, называют его всегда «преломлением хлеба» и «причастием Тела Христова», избегая говорить о приобщении Его Крови, участию в Его Чаше, как явлении Его нового Завета (Лк. 22, 17) и выражении нашего единства с Господом il Кор. 10, 21). Церковь также «Царствие Божие, уже таинственно присутствующее», источником которого является Святая Троица, то «Царствие Божие, которое явлено в Личности Христа, Сына Божия и Сына человеческого», п которого Церковь является уже теперь «ростком и начатком на земле».
Как мы видим, Царствие Божие здесь рассматривается главным образом в своем христологическом аспекте без предоставления достаточного места действиям Духа Святого, что, к сожалению, является характерной чертой богословия и духовной жизни Римской церкви. С другой стороны, можно порадоваться тому, что Церковь, в ее теперешнем состоянии, не отождествляется с Царствием Божиим, которого она является лишь ростком и начатком. В этом новая возможность сближения с православным богословием, которое, будь то справедливо или несправедливо, упрекало римокатолических богословов в таком отождествлении.
Видимая Церковь, хотя и обладающая уже полнотой через свое единение со Христом, находится только на пути к своему раскрытию, пути страдальческом, как прекрасно выражает это седьмой параграф этой главы. «Еще в странствии на земле, идя по стопам (Христа) через испытания, преследования, мы причастны Его страданиям, как тело Главе, будучи едины с Ним в Его страданиях, чтобы быть едиными и в Его славе». Эта Церковь, или точнее эти «овцы» Христовы, «хотя и имеют во главе человеческих пастырей, постоянно руководятся и питаются самим Христом, добрым Пастырем и Пастыреначальником». Здесь правильно делается различие между Пастыреначальником Христом и «человеческими пастырями», к которым именование «Пастыреначальника» не применимо. К сожалению, этому прекрасному утверждению главы о тайне Церкви противоречат многие места Догматического Постановления, которые именуют римского епископа именно пастыреначальником. Это противоречие" нам понять трудно.
То, что Церковь одновременно и видима, и невидима, что эти два ее аспекта неотделимы друг от друга, ибо представляют собою «единую сложную реальность, состоящую из элемента божественного и элемента человеческого» и что, следовательно, тайна Церкви может сравниваться с тайной воплощенного Слова, — все это уже многократно провозглашалось православным богословием и мы с радостью констатируем, что Второй Ватиканский Собор утверждает это более ясно, чем это делали прежние римские богословы, склонные слишком отделять Церковь торжествующую от Церкви воинствующей. Утверждение, что это «мистическое тело» (хотя мы и предпочитаем выражение «тело Христово», так как «мистическое тело» не является ни библейским, ни святоотеческим выражением и окрашено докетизмом) является также «иерархически организованным обществом» не встречает с нашей стороны никаких возражений, хотя такие выражения и кажутся нам слишком юридическими и не вполне соответствующими тайне Церкви. Когда же, сразу после этого, говорится, что «единая Церковь Христова, единство, святость, соборность и апостоличность, которую мы исповедуем в Символе веры» «находится… как составленное и организованное общество в этом мире… в католической Церкви, управляемой преемником Петра и епископами, находящимися в общении с ним», то такое внезапное утверждение, совершенно не вытекающее из всего предыдущего, ни в коем случае не может быть приемлемо для православного и может даже испортить благоприятное впечатление, произведенное остальным содержанием главы.
Православные хорошо знают, что в древней неразделенной Церкви общение с римским епископом не считалась признаком принадлежности к Церкви, как это дает понять приведенный текст соборного постановления. В доказательство достаточно привести пример святого Василия Великого, епископа Кесарийского, который провел большую часть своей жизни и даже умер вне канонического общения с Римом, в лице папы Дамаса не признававшим его. Это не помешало кафолической Церкви, включая и Римскую, провозгласить его великим святителем И Учителем вселенной. Ссылка на Ио. 21, 17, сделанная в этом тексте в подтверждение того, что Господь передал «эту Церковь… Петру, чтобы он был ее пастырем», неубедительна для православных; в согласии с греческими Отцами и богослужением, они видят в этом евангельском тексте восстановление aп. Петра в апостольстве, от которого он отпал после своего трехкратного отречения, а никак не дарование ему особой власти, которой не было у остальных апостолов. Приведенный в Догматическом Постановлении непосредственно за этим отрывок Мф. 28, 18, хорошо показывает, что поручение «расширять Церковь и управлять ею» было дано Христом всем апостолам (включая Петра), а не «ему и другим апостолам», как говорится в Догматическом Постановлении, создающем такт: образом впечатление, что в этом теисте Петр упоминается особо и противопоставляется другим апостолам.
Это только один из примеров тех субъективных и неточных толкований Писания, столь часто встречающихся в Догматическом Постановлении. (Другой пример: тот-же текст Ио. 21, 15 воспроизводится следующим образом: «Он поставил его пастырем всего Своего стада». Разумеется, слово «всего» добавлено к евангельскому тексту).
Следует признать, что отождествление Церкви, которую мы исповедуем в Символе веры с римской Церковью, «которая управляется преемником Петра» смягчается признанием, «что многочисленные элементы освящения и истины продолжают существовать вне ее структур». Это положительное заявление, если его сравнить с еще недавними заявлениями римских пап и богословов, отрицавших существование каких бы то ни было положительных церковных или духовных элементов вне видимых границ римской Церкви. При всей своей признательности за добрые намерения, православные остаются совершенно неудовлетворенными этой «уступкой» со стороны Рима. Более того, они даже задеты в своих чувствах так как в этом заявлении ими усматривается несколько снисходительное отношение, желание как бы даровать некое обогащение. Православная же кафолическая Церковь верит, что она уже обладает всей полнотой истины и благодати, а не только «элементами освящения и истины», которые ей предоставляет ватиканский текст; она верует, что она и есть Церковь единая, святая, соборная и апостольская никейско- константинопольского Символа веры, текст который она сохранила в неприкосновенности.
Мы готовы признать, что римокатолическая Церковь есть также Церковь Символа веры, но Символа со вставкой «Филиокве», одобренного папами и западными соборами, а не Символа Вселенских Соборов древней неразделенной Церкви. Наша уверенность в принадлежности к единой Церкви Христовой основана на существенной тождественности нашей веры и церковного строя с верой и строем этой древней неразделенной Церкви.
II
Вторая глава Догматического Постановления, «Народ Божий», производит в большей своей части благоприятное впечатление.
С радостью узнаем мы, что эта глава помещена в окончательной редакции Постановления «О Церкви» перед главой о иерархии. В первой схеме не было особой главы о народе Божием. О нем говорилось косвенно в главе о мирянах, помещенной после главы о иерархии. Происшедшее изменение очень показательно для той глубокой эволюции, которая за последнее время произошла в римо-католической экклезиологии, где существовала тенденция сводить Церковь к иерархическому институту, в котором народу Божию отводилось лишь очень скромное место. Теперь Церковь образует народ Божий, к которому принадлежат все верующие, духовенство и миряне. Эта новая экклезиология несомненно ближе чем прежняя к традиционному православному учению о Церкви. — Церковь — мессианский народ, новый Израиль, члены которого священники, цари и пророки, что не исключает существования особого, иерархического священства, установленного Христом. Хотя между этими двумя священствами имеется «разница существенная, а не только разница в степени», оба они «причастны единому священству Христа».
Последующее за этим описание таинств не равноценно. Так, православный верующий с удовлетворением отмечает, что таинство соборования представлено как «помазание болящих, предаваемых Господу… для того, чтобы Он облегчил и спас их», а не как «extrema unctio» умирающих. Зато в тексте о Евхаристии сказывается схоластическое, средневековое богословие с его терминологией. Здесь отсутствует всякое упоминании об эпиклезе; говорится только о священнике, который «в роли Христа (in persona Christi) совершает евхаристическое жертвоприношение». Однако, наиболее интересным местом во всей этой главе является текст о народе Божием, обладающем непогрешимостью в силу «чувства веры», которое дает ему Святый Дух. Если мы вспомним, что народом Божиим является вся Церковь, т. е. совместно иерархия и миряне, то станет понятным интерес этого учения для православных, которые веруют, что непогрешимость принадлежит именно только Церкви в целом. «Общество верующих, говорится в тексте, имеющих помазание, происходящее от Святого… не может ошибаться в вере; этот особый, обладаемый им дар оно проявляет в силу сверхъестественного чувства веры, принадлежащего всему народу в целом, когда „от епископов и до последних верующих мирян“ (святой Августин) оно выражает всеобщее согласие с истинами, касающимися веры и нравов». Эти слова почти «хомяковского» звучания, к сожалению, сразу же сводятся к очень немногому потому, что «общее согласие» понимается в смысле совершенно пассивном, как не могущее не последовать в ответ на решения «священного учительства», т. е. папы.
Таким образом это «чувство веры» непогрешимо только, когда «его верно слушаются». Конечно, можно сказать, что и в такой ограниченной форме признание за народом Божиим в его целом «чувства веры» и даже «непогрешимости» представляет собою нечто положительное, могущее принести плоды в будущем. Но в отношении настоящего та же вторая глава снова подтверждает «во благовремении и безвремении», что «Христос управляет Церковью через Верховного Первосвященника и епископов», что местные традиции могут «законно» существовать только если они «не причиняют ущерба примату кафедры Петра, которая председательствует во всеобщем собрании любви». (Эти слова являются тенденциозным парафразом хорошо известного места Послания святого Игнатия Антиохийского Римлянам). В действительности, святой Игнатий не говорит ни о кафедре Петра, ни о «всеобщем собрании». Он говорит только, что преобладает в любви римская «Церковь» ( а не римский епископ ).
Параграф 15, озаглавленный «Связи Церкви с христианами не католиками», производит впечатление неясное и противоречивое. Церковь знает, — говорится здесь, — что «с теми, кто, будучи крещен, носит прекрасное именование христиан, не исповедуя тем не менее всецело веру или не соблюдая единства общения под Преемником Петра, она связана по многим причинам». Если сравнить это заявление с учением римской Церкви еще при Пии XII, оно представляется очень открытым и икуменическим. Однако, то, как оно выражено, делает его неприемлемым для православных. Отметим прежде всего странное смешение между целостностью веры п общением с «Преемником Петра». Мы сохранили целостность веры, но не мерим ее общением с «Преемником Петра». Да и где же ом, этот «преемник Петра»? В Риме? В Антиохии? Пли же в каждом епископе, как думал святой Киприан? Мы измеряем целостность веры верностью «вере, единожды преданней святым» (Иуд. 3), проповеданной апостолами, формулированной Вселенскими Соборами, разъясненной Отцами. Кроме того нас раздражает снисходительный тон по отношению к христианам не римокатоликам. «Многие из них имеют даже епископат, совершают святую Евхаристию и окружают почитанием Деву Богородицу». Это «даже» действительно замечательно! Немного далее великодушно признается, что Дух Святый действует «тоже» среди христиан, не присоединенных к Риму, что «позволило некоторым из них дойти до пролития своей крови». Вот и все, что Догматическое Постановление находит возможным сказать о православной кафолической Церкви, которая от начала и до наших дней была Церковью исповедников и мучеников за веру.
Однако, было бы несправедливым слишком задерживаться на этих «римских» текстах. При всей своей неприятности, они сравнительно редки в этой второй главе о народе Божием и не смогут окончательно испортить то хорошее впечатление, которое она производит в целом. Она и кончается прекрасным троичным призыванием и славословием, которое было бы действительно достойно текстов древней Церкви, если бы оно не отводило слишком мало места Духу Святому. «Итак Церковь сочетает молитву с делом для того, чтобы весь мир, во всем своем существе был превращен в народ Божий, в Тело Господне и храм Духа Святого и чтобы во Христе, Главе всяческих, воздавалась Творцу и Отцу вселенной всякая честь и поклонение».
III
Мы к сожалению не можем столь же положительно отнестись к третьей главе, озаглавленной «Иерархическая структура Церкви и в частности епископат». Именно в этой главе находится наибольшее количество утверждений, для нас неприемлемых, о первенстве, о всеобщей юрисдикции и о непогрешимости папы. Правда, в этой же главе впервые выражается в официальном документе римокатолической Церкви учение о коллегиальности епископата. Если не считать некоторых оговорок богословского характера, это учение может рассматриваться православными как нечто положительное, может быть даже как шаг вперед на пути к христианскому единству. Однако, провозглашение этого учения сопровождается или скорее уравновешивается столь многочисленными утверждениями папских прерогатив, что можно на законном основании спросить себя, в чем состояла цель авторов этого текста: в том ли, чтобы выразить учение о коллегиальности, пли же скорее в том, чтобы снова подтвердить и даже усилить догмат Первого Ватиканского собора о первенстве п непогрешимости папы? Если обе эти цели были поставлены вместе, то нужно сказать, что между ними не найдено никакого органического синтеза. К тому лее это было бы и задачей, самой по себе невозможной и противоречивой. В тексте третьей главы папство и коллегиальность просто противопоставлены и, когда усматривается открытый конфликт между ними, или хотя бы возможность оппозиции в их взаимоотношениях, их неустойчивое равновесие нарушается в пользу папства, которому всегда принадлежит последнее слово.
Ватикан II ни в коем случае не ставил себе задачу пересмотреть догмат Ватикана I о папстве. Дабы в этом отношении не было никакого сомнения, третья глава начинается формальным упоминанием первого Ватиканского собора. «Настоящий святой собор, — говорится здесь, — идя по стопам первого Ватиканского собора, вместе с ним учит и заявляет, что Иисус Христос, вечный Пастырь, построил святую Церковь, послав апостолов… Он пожелал, чтобы преемники этих апостолов, т. е. епископы, были в Церкви пастырями до скончания века. Но, чтобы сам епископат был единым и неделимым, Он поставил святого Петра но главе других апостолов, установив в его лице постоянные и видимые начало и основу единства веры и общения. Это учение о первенстве римского епископа и о его непогрешимом учительстве в отношении его установления, постоянства, силы и понимания, собор заново предлагает всем верующим как предмет веры».
Здесь перед нами пример такого противопоставления двух принципов, коллегиальности и папства, которые представляются равноценными поскольку оба установлены Христом, но возможное взаимное противодействие которых в действительности разрешается в пользу непогрешимости римского епископа в согласии с догматом первого Ватиканского собора. И, как будто бы это подтверждение решений первого Ватиканского собора было недостаточно, папа Павел VI дает, в своей речи при обнародовании Догматического Постановления «О Церкви», официальную интерпретацию этого текста. «Очень важно, — говорит он, — чтобы такое признание папских прерогатив было явственно выражено в то время, когда требуется определить вопрос епископской власти в Церкви таким образом, чтобы эта власть была представлена не в контрасте, а в справедливом и конституционном согласии с властью Наместника Христа, главы Коллегии епископов». Но, поскольку прерогативы папы были определены первым Ватиканским собором, то следовательно, это «конституционное согласие», о котором говорит Павел: VI, фактически сводится к послушанию решениям «главы коллегии епископов». К тому же непосредственные вмешательства пап Иоанна XXIII к Павла VI в решения собора, уже сами по себе достаточно показывают, что прерогативы римского епископа ни в какой мере не уменьшаются вторым Ватиканским собором.
Заявив о своей верности первому Ватиканскому собору, Догматическое Постановление излагает учение о коллегиальности епископата.
Оно вполне справедливо отмечает, что епископы — преемники апостолов и что апостольское предание через них проявляется и сохраняется в мире. Приводится свидетельство святого Иринея.
Отметим здесь, что всякий раз, как дело идет о коллегиальности, о власти епископов и т. д., обычно цитируются отцы первых веков — Климент Римский, Игнатий Антиохийский, Ириней, Тертуллиан; для подтверждения же папских прерогатив, прибегают к западным постановлениям недавнего времени (энцикликам пап Льва XIII и Пия ХП, Кодексу канонического права и т. д.). Постановление рассматривает взаимоотношения между коллегией епископов и римским епископом.
Первое впечатление, могущее создаться от этого текста таково, что некоторый дуализм как будто бы заменил существующую в римской Церкви монархическую систему, поскольку Постановление «О Церкви» признает за коллегией епископов ту же высшую и полную власть над всей Церковью, которой располагает и папа. Однако, в действительности ничего подобного нет. Коллегия епископов без папы не имеет никакой власти; она обладает ею только поскольку она находится в единении с папой. Папа же, даже один, без епископов, обладает полнотой власти и непогрешимостью. В этом отношении тексты Догматического Постановления очень ясны. «Коллегия или епископское сословие имеет власть только если оно мыслится как соединенное с римским епископом, преемником Петра, как со своим главой и без ущерба этого примата, который распространяется на всех — пастырей и верующих. В самом деле, римский епископ, в силу своей должности Наместника Христа и Пастыря всей Церкви, имеет полную, высшую и всемирную власть над Церковью и может всегда свободно ее осуществлять».
Что же касается сословия епископов, то оно «является также, в единстве с римским епископом, своим главой, но никогда без этого главы, субъектом высшей и полной власти над всей Церковью, такой власти, однако, которая может осуществляться только с согласия римского епископа». Иначе говоря, если власть римского епископа происходит непосредственно из его полномочий Наместника Христа, то власть епископата зависит от его согласия с папой. Если о нем и говорится, что он также «является субъектом высшей и полной власти над всею Церковью», то это только потому, что он един с папой, обладающим этой властью.
Это было определенно разъяснено самим Павлом VI в предварительной разъяснительной Ноте, сообщенной соборным отцам высшей властью: «О коллегии, которая без своего главы не существует, говорится, что она также является субъектом высшей и полной власти во вселенской Церкви». Признать это совершенно необходимо, чтобы не ставить под вопрос полноту власти римского епископа. В самом деле, коллегия епископов понимается всегда и обязательно как единая со своим главой, который, в этой коллегии, всецело сохраняет свои полномочия Наместника Христова и пастыря вселенской Церкви. Иначе говоря, грань проводится не между римским епископом отдельно, и римским же епископом вместе с другими епископами. Будучи главой коллегии Верховный епископ один только может совершать некоторые поступки, которые ни в коем случае не подобает совершать епископам… От решения Высшего епископа, которому вручено попечение о всем стаде Христовом, зависит определение, в зависимости от изменяющихся во времени нужд Церкви, каким образом надлежит осуществлять это попечение, лично или коллегиально. В отношении развития, урегулирования и утверждения коллегиальной деятельности Верховный епископ поступает по своему собственному усмотрению, учитывая благо Церкви«. Другими словами, Верховный епископ, руководствуясь своим собственным усмотрением и благом Церкви как он сам его понимает, может действовать или лично, или коллегиально, и решать все вопросы. Он таким образом ни в какой мере не связал коллегиальностью.
Что же касается непогрешимости, то Постановление «О Церкви» формулирует ее словами, всецело вдохновленными первым Ватиканским собором: «Этой непогрешимостью римский епископ, глава коллегии епископов, располагает в силу самого факта своей должности…провозглашает абсолютным определением предмет учения, касающийся веры и нравов. Поэтому, произнесенные им определения, справедливо называются неподлежащими исправлению как таковые, а не в силу согласия Церкви, поскольку они высказываются при содействии Святого Духа, обетованного ей в лице святого Петра и потому не имеют нужды в чьем либо подтверждении, так-же как не могут они допускать и обжалования перед другим судом».
Если в этом тексте отбросить слова «глава коллегия епископов», лишь механически к нему присоединенные безо всякой связи с тем, что за ними следует, то остальной текст лишь повторяет постановление первого Ватиканского собора о непогрешимости, не зависящей от согласия Церкви, не нуждающейся в подтверждении ею и не могущей быть обжалованной.
Нечего и говорить о том, как далеко это понятие непогрешимости от веры православных, которые верят в непогрешимость Церкви, как тела Христова и обиталища Духа Святого, ниспосланного Христом от Отца на апостолов в Пятидесятницу. Именно Дух Снятый дает преемникам апостолов, епископам, собранным во вселенский собор, благодать и силу непогрешимо определять на нем веру Церкви от ее имени. Эта благодать принадлежит им сообща по силе апостольского преемства, и решения собора принимаются народом Божиим, иерархией и мирянами, свидетельствующими фактом своего приятия, что данный собор был действительно вселенским.
При этих условиях не совсем ясно, к чему сводится коллегиальность епископов, провозглашенная вторым Ватиканским собором, раз собор этот подтверждает постановления первого Ватиканского собора. Неясно также что имеет в виду Догматическое Постановление, утверждая, что епископы имеют «власть собственную, обычную и непосредственную», осуществляемую ими «от имени Христа» в их епархиях. «Им всецело преданы пастырские полномочия, — говорится в Постановлении; — их не следует рассматривать как наместников римских епископов, так как они осуществляют власть свою собственную и являются в действительности главами народов, которыми они руководят».
Это прекрасные слова, но как тогда согласовать власть епископов в их епархиях с той «обычной и непосредственной юрисдикцией во всех отдельных церквах», которой также обладает римский епископ согласно догмату первого Ватиканского собора? Следует ли признать, что в этом пункте существует противоречие между первым и вторым Ватиканским собором, или же, что второй собор устанавливает в одном и том-же месте две непосредственных и обычных юрисдикции: епископскую и папскую, что противоречит основам канонического церковного строя? Все это крайне противоречиво и неясно. Однако, есть в этом и нечто положительное: епархиальные епископы уже не рассматриваются как простые наместники папы, каковыми они обычно стали после первого Ватиканского собора.
Отметим в третьей главе еще несколько мест, привлекающих внимание православного читателя.
Сакраментальность епископата вызывает у него серьезные сомнения. Это учение новое. Православные верят в таинство священства, полнота которого принадлежит епископской степени, а не в таинство епископства, понимаемого как нечто отдельное от других степеней (-нищенства. Несомненно, что епископская хиротония, как справедливо замечает Постановление «О Церкви», дает «полномочия учительства и управления». Однако, причина этого не в том, что она — новое таинство, а в том, что в ней полнота таинства. При логике развития догматов, присущей рпмокатоличеству, можно даже опасаться, что «сакраментальность епископства» на следующем соборе будет дополнена «сакраментальностью папства». В другом месте этой главы упоминаются древние патриаршие церкви и за ними признаются известные права. Это хорошо, но мы бы предпочли, чтобы говорилось вообще об автокефальных церквах, сгруппированных в иерархическом порядке по признаку чести, по существу же равных между собою. Следует также приветствовать упоминание, хотя и краткое и скромное, епископских конференций, могущих в будущем оказаться ростками автокефальных церквей, и их роли в осуществлении коллегиальности. К сожалению этим исчерпывается все, что мы можем сказать положительного о третьей главе Догматического Постановления.
IV
Перейдем теперь к следующим главам: «Миряне», «Монахи», «Всеобщее призвание к святости».
Они в общем хороши и с православной точки зрения возражений на них мало. Хорошо, что Постановление «О Церкви» говорит о мирянах, что она дает им место в Церкви, настаивает на том, что к святости призваны все христиане, восхваляя в то же время монашескую жизнь. Можно только пожалеть, что монашество она основывает на сомнительном учении о так называемых «евангельских советах», которые трудно согласовать со всеобщим призванием к святости и совершенству. Жаль также, что духовная жизнь представляется здесь исключительно в своих западных формах и при помощи схоластических выражений, и никак не отражается святоотеческая духовная жизнь Востока, которая и в наше время жива в православном мире, с ее пониманием обожения человека благодатью.
Можно также спросить себя, возможно ли и желательно ли всецело институализировать монашество, чтобы поставить его на службу Церкви, как это предлагает Постановление «О Церкви».
Седьмая глава об эсхатологическом характере Церкви на земле и ее единстве с Церковью небесной, кажется нам самой лучшей и самой глубокой из всего Догматического Постановления «О Церкви». Этот замечательный текст устраняет те упреки, которые православные делали римокатолической экклезиологии в черезмерном разграничении Церкви земной и Церкви небесной, Церкви воинствующей и Церкви торжествующей, в отождествлении Царствия Божия с видимой Церковью в ее теперешнем состоянии и в утрате эсхатологического сознания.
Здесь, напротив, утверждается тесное единение между Церковью на небе и Церковью на земле. Так, Догматическое Постановление говорит о тех, кто еще ожидает на земле Господа и о других, кто уже созерцают Бога во славе, и продолжает: «Все, принадлежащие Христу, обладающие Его Духом, составляют единую Церковь и во Христе составляют совместно одно целое. Итак, единение тех, кто еще в пути, с их братьями, уже усопшими в мире Христове, не знает никакого разрыва».
С силой выражается эсхатологичность Церкви: «Итак, последние времена уже пришли для нас. Обновление мира уже бесповоротно получено и, с совершенной реальностью предвосхищается уже теперь: Церковь действительно уже на земле украшена святостью, пока еще несовершенной, но подлинной. Однако, до того часа, когда осуществятся новое небо и новая земля, где правда живет, Церковь в странствии несет в своих таинствах и установлениях, связанных с настоящим временем, образ преходящего мира; она сама живет среди тварей, еще стонущих в муках рождения и ожидающих явления сынов Божиих».
Эти прекрасные тексты находят глубокий отклик в сердцах православных, которые сожалеют только, что в той-же главе находятся намеки на чистилище и упоминания учения о преизбыточествующих «заслугах» святых в объяснение их предстательства за жителей земли.
Это учение, юридическое и наемническое, даже «банковское», как называл его Хомяков, противоречит богословию, понимающему Церковь как одновременно небесную и земную, единое божественное и человеческое тело, тому богословию, которое так глубоко развито в этой главе. Мы считаем, что и современная структура римокатолической Церкви также находится в противоречии с этим богословием. Говорить о «ее установлениях», что они «носят образ преходящего мира» недостаточно.
V
Особо следует рассмотреть восьмую главу, озаглавленную «Блаженная Дева Мария, Богоматерь, в таинстве Христа и Церкви».
Мы сожалеем о том, что соборные отцы настояли на ее включении в рамки Догматического Постановления «О Церкви». Если говорить о Пресвятой Деве, то лучше было сделать это в приложении или даже в отдельном постановлении. В том виде, в каком она существует, эта глава плохо соответствует контексту Догматического Постановления и вредит его единству. Ясно, что о Богоматери здесь следовало говорить, так же как о невидимой Церкви и о святых и отметить особое место «честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим».
Можно однако сказать, что в данном тексте о Ней говорится и слишком много и одновременно слишком мало. Слишком много потому, что Ее значение разъясняется не только по отношению к Церкви, но и по отношению к воплощению, что выходит из богословских рамок настоящего Догматического Постановления. Слишком мало потому, что невозможно в одном документе изложить все учение Церкви о Божией Матери.
«Постановление о Церкви» и само это признает. Поэтому лучше было бы говорить о Ней отдельно. А самым лучшим было бы почтить молчанием тайну воплощения и Богоматеринства и избегать новых ее догматических определений. Этим путем и идет православная кафолическая Церковь, которая, воспевая в своих песнопениях таинства п величия Пресвятой Девы Марии и возвеличивая Ее в проповедях своих пастырей, воздерживается со времени Ефесского Собора, от догматических формулировок своей веры в Матерь Божию.
С этими оговорками мы можем все-же сказать, что восьмая глава производит на православного читателя хорошее впечатление своим библейским характером, широтой богословской мысли и искренностью почитания Богоматери. Однако, некоторые типично римокатолпческие черты искажают красоту изложения в целом.
В него включено учение о непорочном зачатии, притом чисто механически п, правда, несколько прикровешю, вероятно по причинам икуменического характера (сам термин «непорочное зачатие» в тексте не встречается). Так о Богоматери говорится, что Она была искуплена выдающимся образом, ввиду заслуг Ее Сына«, «невредима от какой либо скверны», «создана как новая тварь» и «сохранена Богом от всякого действия первородного греха». Здесь мы имеем дело с схоластическим учением, основанным на антропологии и понимании первородного греха, неизвестном греческим Отцам.
В рамках святоотеческой мысли это учение означает умаление свободного выбора и святости Девы Марии, поскольку Она освобождена якобы от первородного греха особой привилегией, и ослабление Ее связи с человеческим родом и Ее материнства по отношению к нему, если Ее человечество не та человеческая природа, ослабленная Адамовым грехом, которая обща всем людям. Этим подрывается даже и реальность и действенность самого воплощения.
Однако, авторы Постановления «О Церкви» этого не думают. «Поэтому справедливо святые отцы, — пишут они, — считают, что Мария способствует спасению людей не просто содействием пассивного орудия в руках Божиих, но свободной Своей веры и послушания». Это прекрасное, православное заявление, но мы видим в нем противоречие с учением об особой привилегии, данной Марии и лишающей Ее веру и послушание ценности и свободы.
Среди тех именований, которые употребляются при призывании Божией Матери в Церкви, православные безоговорочно соглашаются с именованием Ходатайцы. Это неоспоримый исторический факт и отвергать его значило бы отвергать христианское благочестие с древних времен до наших дней. Православное верование в особый род ходатайства Богоматери хорошо выражено в следующем богослужебном песнопении, часто воспеваемом в православных церквах: «Тя ходатайствовавшую спасение рода нашего, воспеваем, Богородице Дево; плотию бо от Тебе восприятою Сын Твой и Бог наш, крестом восприим страсть, от тли избави нас як о человеколюбец».
Как мы видим, искупление — дело исключительно одного Христа на кресте; но Богоматерь, давшая плоть Своему Сыну, Своим смиренным и свободным согласием сделавшая возможным Боговоплощение, тем самым соучаствовала в спасении людей. Роль ходатайцы в деле спасения человека очень хорошо выражается православными иконами Божией Матери, которые, за очень редкими исключениями, не изображают Ее одну, но всегда вместе со Христом, Которого Она держит на руках или в лоне.
Именно икона Пресвятой Богородицы становится образом воплощения; почитая Богоматерь, мы поклоняемся Христу. Поэтому очень жалко, что Постановление «О Церкви» избегает говорить о богословии образа, основанном на тайне воплощения и на учении о человеке, созданном по образу Божию, и говорит лишь о почитании икон с точки зрения исторической и практической. Следует однако признать, что тексты восьмой главы удовлетворительно выражают подлинный смысл нашего почитания Божией Матери, когда там говорится, что «материнская роль Марии по отношению к людям ни в чем не ущербляет это единое посредничество Христа: наоборот, она проявляет его достоинство». Говорится там и что почитание Девы Марии, «каким оно всегда существовало в Церкви, носит характер совершенно исключительный; оно тем не менее существенно отличается от поклонения, воздаваемого воплощенному Слову, также как и Отцу и Святому Духу; оно в высшей мере способно служить последнему». Мы бы добавили: да, это почитание отличается от поклонения Христу, но оно от него неотделимо, так как именно Его воплощение мы провозглашаем, почитая Его Матерь по плоти, а поклоняясь воплощенному Слову, мы исповедуем Святую Троицу.
Очень утешительно то, что соборные отцы, несмотря на все давления, не согласились включить в текст Постановления «О Церкви» новое именование Девы Марии, «Матерью Церкви».
Тем более сожалеем мы, что это именование было все-же провозглашено особым актом папы Павла VI, не посоветовавшегося с собором. Это наименование неизвестно в святоотеческом и богослужебном предании Церкви, во всяком случае на Востоке. О. А. Венгер старательно изучал византийских отцов с целью найти у них это наименование Пресвятой Богородицы. Он опубликовал прекрасные тексты, где место Божией Матери в деле нашего спасения сильно подчеркивается. Однако, ему не удалось найти в их писаниях, даже риторических и поэтических, именование Пресвятой Богородицы «Матерью Церкви». Для православного верующего оно непонятно и создает неясность. Оно во всяком случае вносит путаницу в то, как мы сознаем себя чадами Церкви, нашей Матери.
VI
Заканчивая наш обзор Догматического Постановления «О Церкви», (хотя н длинный, но нисколько не исчерпывающий п не систематический), мы снова ставим вопрос: какова же реакция православного верующего человека на этот столь важный документ второго Ватиканского собора, его «Magna Charta» как подавно назвал его иезуит Г. Дежефв в своей статье в «Nouvelle Revue Théologique».
В ответ, мы можем лишь повторить то, что мы сказали вначале: реакция эта двойственна и противоречива, также как двойственно и противоречиво само Догматическое Постановление: вместе с прекрасными и глубокими текстами, показывающими подлинное возвращение к источникам христианства, могущее принести пользу и нам, православным, вместе с текстами отражающими действительный рост римокатолического богословского сознания, приближающий его к истине и православию неразделенной Церкви Вселенских Соборов, вместе со всем этим это Постановление содержит также и многое другое, неприемлемое, чуждое подлинной вере и преданию, повторение и даже усиление самых неприемлемых постановлений первого Ватиканского собора.
Это возвращение к тезисам, которые многим православным представлялись изжитыми при папе Иоанне XXIII и «ад- жорнаменто» Церкви, их глубоко разочаровало. «Так была в большой мере потеряна, — пишет известный профессор Кармирис в официальном органе Элладской Церкви, — серьезная возможность подлинного и реального исправления римокатолической Церкви в целом, возможность, которую представляла в частности решающая схема „О Церкви“ и которая облегчила бы тот икуменический диалог, который Церковь эта хочет начать с другими церквами, и прежде всего с православной кафолической Церковью».
Мы бы не хотели быть столь пессимистичными. Конечно, Постановление «О Церкви» не может служить основой для диалога между Католичеством и Православием. Единственной основой, которую мы могли бы принять, является вера и строй древней неразделенной Церкви. Эту веру, которая до разделения была общей, Постановление «О Церкви» не отражает. Тем не менее, уже сам его противоречивый характер, то неустойчивое равновесие, которое в нем поддерживается несмотря на все преимущества, предоставляемые папству, внутренний динамизм, присущий идее Церкви, как Телу Христову и народу Божию, находящемуся на пути к полноте (вместо понятия Церкви как простого иерархического общества), все это дает нам «надежду вопреки всякой надежды» на то, что Постановление «О Церкви » не является последним словом римокатолической Церкви в тех жгучих вопросах, которые отделяют ее от Православия.
Нашим римокатолическим братьям еще придется проделать большой труд возвращения к истокам и обновления под водительством Духа Святого, для того, чтобы наконец открылся путь к единству христиан. Кажется, однако, что римокатолическая Церковь не сможет одна справиться с этим, как это показал настоящий собор. Здесь и встает большой вопрос диалога между римокатоличеством и Православием, диалога не совсем еще созревшего ни с той, ни с другой стороны, но час которого пробьет, когда Богу будет угодно. Все мы, римокатолики и православные, должны трудиться, чтобы подготовить необходимые для этого условия.
Архиепископ Василий
Догматическое постановление «О Церкви» II Ватиканского Собора с православной точки зрения // «Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего экзархата». 1966. № 56. С. 222-238.

В православном богословском сознании, как и в православной литургической жизни, спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении неотделимо от всего спасительного дела Господа, которое является свидетельствам любви Божией к человеку, хотя и падшему и отпавшему от Бога, но созданному Им по Своему образу и подобию. Все дело Иисуса Христа на земле пронизано единой мыслью о спасении человечества и складывается из отдельных исторических моментов — Воплощения, Крестной смерти, Воскресения, Вознесения и, наконец, ниспослания от Отца Святого Духа, хотя последнее и выходят за пределы земной жизни Спасителя. В литургической жизни Церкви, выражающей её богословское сознание, два богослужебных цикла, в которых воспоминаются основные события нашего спасения, а именно: цикл, посвя-щенный Рождеству и Богоявлению, иначе говоря, Воплощению Предвечного Слова и Его явлению миру, и цикл молитвенного воспоминания Крестной смерти Христа, Его тридневного Воскресения, Вознесения и ниспослания Святого Духа, плоды Которого мы созерцаем в последнем празднике этого цикла — дне памяти Всех Святых. Центральным и высшим в этом цикле, как и во всем литургическом году, является Праздник Святой Пасхи, преславного из мертвых Христова Воскресения. В настоящей работе делается попытка разъяснить некоторые вопросы, связанные с пасхальным циклом.
Для православного богословского сознания всё спасительное дело Христово, Его распятие на Древе Крестном и искупительная Смерть являются непостижимой и невыразимой тайной, смысл и значение которых не могут быть вполне осознаны людьми. Для нас, верующих, Крест Господень всегда «Непобедимая и непостижимая и Божественная сила» (великое повечерие). Святой апостол Павел писал: «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1, 22-24). «Безумие» и «немощь» Креста являются в действительности величайшей премудростью и силой Божией, «потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор. 1, 25). Это невозможно выразить словами, потому что непостижимая глу-бина тайны Креста не может быть до конца осмыслена человеческим разумом. Всякая попытка постичь спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении неизбежно искажает или сужает вопрос. Характерна в этом смысле юридическая теория искупления Ансельма Кентерберийского, проникшая во многие православные богословские учебники. В основе её лежит юридическое понятие «удовлетворение» ( satisfactio ), согласно которому всякое нарушение закона может быть искуплено только соответствующим вине наказанием. По этой теории Адам своим прослушанием оскорбил величие Божие. Будучи не в состоянии как человек принести соразмерное глубине преступления удовлетворение, он должен был умереть вечною смертью. Но правда Божия требовала жертвы, равной достоинству Божества. Такой жертвы человек как творение был не в состоянии принести. Только Сын Божий, Единосущный Отцу, мог Своею Крестною смертью принести достойную величия Бога жертву. Ради этого Сын Божий вочеловечился и умер на Кресте по человечеству, ибо по Божеству Он бессмертен. Своею смертью Он удовлетворил Божественную справедливость и Кровию Своею смыл оскорбление, нанесенное Адамом величию Божию. Крестные заслуги Сына Божия присваиваются человеческому роду и примиряют Бога с человеком и миром.
Высказанная в такой крайней форме теория искупления не может быть принята Православной Церковью. Она носит односторонне-юридический характер, поскольку всё дело спасения человека теория представляет ис-ключительно в рамках закона (заповеди Божией), его нарушения, вытекающей отсюда вины и наказания виновного, требуемого отвлеченной справедливостью. Эти юридические посылки окрашены феодальными, свойственными средневековому Западу воззрениями о том, что оскорбление, нанесенное представителю высшего сословия, может быть смыто только лицом равного социального достоинства, На этом принципе был основан институт дуэли.
Однако понятие оскорбления величия Божия и необходимости его удовлетворения чуждо Священному Писанию и святоотеческому представлению об искуплении. Для нас более приемлема мысль об удовлетворении правды Божией, но и здесь, в теории Ансельма, трудно согласиться с противопоставлением правды Божией и любви Божией как антагонистических сил. Бог совершает множество действий, и они не противоборствуют друг другу, но выявляют единое Божие устремление. Крест является не только орудием наказания и мучения, проявлением гнева Божия, но и подтверждением Его любви, символом победы и оружием мира. Он не только скорбен, но и радостен. «Се прииде Крестом радость всему миру», — поет Святая Церковь, ибо Крест ведет к Воскресению и неразрывно связан с ним. Это не отмечено в юридической теории искупления, в которой не остается места для Воскресения, ибо в соответствии с концепцией этой теории оно не необходимо для спасения рода человеческого, поскольку оскорбленное величие Божие уже удовлетворено на Кресте и, следовательно, примирено с миром. А между тем Апостол говорит; «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша..: вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15, 14, 17).
В юридической теории искупления значение Воплощения ограничено и сведено к тому, что Бог принял смерть по человечеству. Так утрачивается понимание Воплощения как соединение Божественной природы с человече-ской, восприятие человеческой природы в Божественную Ипостась Логоса и обожение человеческого естества, в результате которого мы становимся «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1, 4). Или, как говорит святой Афанасий Александрийский: «Слово вочеловечилось, дабы мы обожились». В юридической теории искупления, согласно которой человек не перерождается силой крестной; не омывается Кровию Христовой, а только объявляется невиновным благодаря крестным страданиям Христа, исчезает онтологическое понимание спасения, характерное для Православия.
Однако юридическое понимание искупительного дела Христа несправедливо считать совершенно неверным. Оно односторонне, неполно и несет в себе элементы, часто чуждые Священному Писанию и преданию Церкви (satisfactio, оскорбление величия Божия и т. д.), но концепция её строится, хотя часто и искаженно, на учении Откровения. Сын Божий действительно добровольно умер на Кресте за наши грехи и спас нас Своею Кровию. «Он взял на Себя наши немощи, — пророчествует Исаия, — и понес наши болезни… Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились… Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно… Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53, 4-7, 12). Христос взял на Себя греховное проклятие, чтобы даровать нам благословение Божие: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе), дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников» (Гал. 3, 13-14). Эту веру Церкви в искупительную и спасительную силу Креста Церковь выражает, в частности, молитвой священника на проскомидии: «Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию, на Кресте пригвовдився и копием прободся, бессмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе!»
В других церковных песнопениях подчеркивается созидательная сила Креста, восстанавливающая извечный замысл Божий о человеке, нарушенный грехопадением Адама: «Приидите, все языцы, благословенному древу по-клонимся, имже бысть вечная правда; праотца бо Адама прельстивый древом, крестом прельщается и падает низвержен падением странным, мучительством одержавый царское здание; кровию Божиею яд змиев отмывается, и клятва разрушися осуждения праведнаго, неправедным судом Праведнику осуждену бывшу. Древом бо подобаше древо исцелити и страстию Безстрастнаго, яже на древе, разрешити ти страсти осужденнаго. Но слава, Христе Царю, еже о нас Твоему мудрому смотрению, имже спасл еси всех, яко Благ и Человеколюбец!» (Праздник Воздвижения Креста, «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах»). В этой стихире с замечательной полнотой дая синтез святоотеческого учения об искуплении, соответствующего во всем Священному Писанию. В основе учения лежит понятие вечной правды Божией, понимаемой, однако, не в юридическом смысле удовлетворения оскорбленного величия Божия соответствующей вине жертвой, а в смысле восстановления разрушенного соответствующим дей-ствием Сына Божия («Древом бо подобаше древо исцелити, кровию Божиею яд змиев отмывается…» и т. д.). Слово Божие свидетельствует, что Бог отдал Сына Своего на Крестную смерть ради спасения мира: «Господь возложил на Него грехи всех нас… Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению» (Ис. 53, 6, 10). Или, как говорит Сам Христос: «…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Таким образом, не требование отвлеченной справедливости, и тем более не. удовлетворение оскорбленного величия Бога, но одна любовь Божия является движущей вялой непостижимой тайны добровольной Крестной Жертвы воплощенного Сына Божия во имя спасения мира. «….Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5, 8-9). В тайне Креста, по словам митрополита Московского Филарета, выразилась «любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемая, любовь Духа Святого, торжествующая силою крестною. Так бо возлюбил Бог мир» (Слово в Великий Пяток).
Крест, как высшее выражение любви Божией, есть слава и сила Божия. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бот прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (Ин. 13, 31-32), — говорит Христос Своим ученикам, идя да страдания и Кре-стную смерть. И эта крестная слава, как видим, есть Троическая слава, ибо в Крестной смерти Сына прославляется Бог Отец. С прославлением Христа неразрывно связано и сошествие Святого Духа: «еще не было на них (верующих. — Прим. ред.) Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7, 39). Вот почему на горе Фаворской, иногда явлена была Божественная Слава Христова, Моисей и Илия, явившись во славе Преображения Христова, говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме (см. Лк. 9, 31). Крест — также сила Христова, в немощи совершаемая (2 Кор. 112, 9). На Кресте побеждаются смерть и грех. Безгрешен и бессмертный Господь, восприняв от Духа Святого и Девы Марии непорочную человеческую природу первозданного Адама и добровольно приняв за нас смерть, освободил нас от греха и смерти. Добровольность смерти нужно понимать не только в том смысле, что Христос не сопротивлялся распинавшим Его, но и что, будучи неподвластен смерти, Он по собственной воле умер на Кре-сте по человечеству.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что на Кресте был распят не человек (homo adsumptus), воспринятый Сыном Божиим, но Сам Сын Божий, Само воплощенное Слово, Господь Славы. Апостол Павел пишет: «Если бы познали (тайну премудрости Божией), то не распяли бы Господа Славы» (1 Кор. 2, 8). Сын Божий, Христос, умер не по Божеству, а по человечеству, но человечество Христа было усвоено Его Божественной Личностью, ипостазировано в ней. Бессмертная Божественная природа Христа оставалась бесстрастной во время страданий, непостижимым образом воспринятых Самим Сыном Божиим и усвоенных Им. И потому мы говорим, что Превечный Сын Божий вочеловечившийся подлинно страдал и умер на Кресте по человечеству, оставаясь бесстрастным по Божеству. Это и понятно, ибо не Божество пало, а человек, не Бог нуждался в искуплении, а Адам и с ним весь род человеческий. Это замечательно выражено в каноне Великой Субботы: «Человекоубийственно, но не богоубийственно бысть прегрешение Адамово; Аще бо и пострада Твоея плоти перстное существо, но Божество безстрастно пребысть… Аще и разорися Твой храм во время Страсти, но и тако един бе состав Божества и плоти Твоея, во обоих бо един еси Сын, Слово Божие, Бог и Человек».
Крест — знамение победы, победы над диаволом и темными силами зла, «оружие мира, непобедимая победа», как воспевает Святая Церковь. «Вас, — пишет Колоссянам святой апостол Павел, — которые были мертвы во грехах… (Бог. — Прим. авт.) оживил вместе с Ним (Христом. — Прим. авт.), простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2, 13-15). И этому непобедимому оружию Божией силы. Кресту Господню, мы поклоняемся с радостью и любовью: «Днесь происходит Крест Господень, — поет Святая Церковь, — и вернии приемлют того желанием… Сего целуим радостию и страхом. Страхом — греха ради, яко недостойни суще, радостию же спасения ради, еже подает миру на том пригвоздившийся Христос Бог, имеяй велию милость» (праздник Воздвижения Креста, «Слава, и ныне, на хвалитех»). Крест — Божественная сила любви и самопожертвования, которою зиждется мир и которая освящает все концы вселенной: «Четвероконечный мир днесь освящается, четверочастному воздвизаему Твоему Кресту, Христе Боже наш» (праздник Воздвижения Креста, стихира на поклонение Кресту). Это — в порядке космическом. А в историческом и промыслительном — «Крест — хранитель всея вселенныя, Крест — красота Церкви, Крест — верных утверждение, Крест — ангелов слава и демонов язва» (светилен праздника Воздвижения Креста).
Божественная сила крестная действовала извечно: само творение мира и человека невозможно было бы без неё. Крест начертан в самом телесном образе человека. В Ветхом Завете мы видим прообразы Креста в райском Древе Жизни, в благословении Иакова, в жезле Моисея и в простертых руках его во время битвы против Амалика, в медном змие и т. д. Но только на Голгофе, в добровольной Крестной смерти воплощенного Сына Божия полностью проявилась, непостижимая и непобедимая сила любви Божией к человеку. Для нас, искупленных драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира (1 Пет. 1, 19-20), Крестная жертва Христа является началом навой жизни.
Здесь мы подходим к самому глубокому и таинственному смыслу Крестной смерти Господа, как жертвы за спасение людей. Христос говорит: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10, 45). Наиболее полно жерт-венный смысл смерти Крестной раскрыт в Послании святого апостола Павла к евреям, в котором великий евангелист говорит о Крестной смерти, как о первосвященнической жертве, единожды принесенной Христом Духом Святым и дарующей нам вечное искупление: «Христос, Первосвященник будущих благ… со Своею Кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление… Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9, 11, 14, 15). В Послании к Евреям не раз акцентируется однократность принесенной искупительной и очистительной жертвы за грех: «Он (Христос) совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого» (Евр. 7, 27); «Он однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха, жертвою Своею» (Евр, 9, 26); «освящены мы единакратным принесением тела Иисуса Христа» (Евр. 10, 10). Важно отметить, что подчеркиванием исключительности жертвы Христовой, а также указанием на то, что Христос является Первосвященником Нового Завета, выражается мысль, что смерть Христова на Кресте является началом совершенно новых отношений между Богом и человеком. А указанием, что Сын Божий принес Себя в жертву Богу Отцу Духом Святым, отмечается Тройственный характер Крестной смерти: единое действие Пресвятой Троицы от Отца Сыном в Духе Святом совершаемое.
В чем сущность искупительной и благодарственной жертвы Божественной любви и кому она была принесена, об этом много писали и спорили святые отцы. Наиболее полно и верно выразил учение Православной Церкви святой Григорий Богослов: «Кому и за что была пролита за нас кровь великая и знаме-нитая Бога, Первосвященника и жертвы? Ибо мы были во власти лукавого, проданные под грех и получившие взамен зла наслаждение. А если выкуп дается не кому-либо другому, а владеющему, я опрашиваю, кому он был уплачен и по какой причине? Если лукавому, то, увы, какое оскорбление… А если Отцу, то прежде всего как? Ибо не Им мы были пленены… Или ясно, что получает Отец, ни просивший, ни имевший в том нужды, но для строительства (т. е. спасения человека. — Прим. авт.), и так как было необходимо, чтобы человек был освящен человечеством Бога, чтобы Бог нас избавил от тирана, одолев его силою, и привел к Себе через посредство Сына» (Слово 45, 22. P. G. 36, 653). Это замечательное святоотеческое свидетельство понимает искупление как свободное действие Божественной любви и отмечает победоносную силу Креста, особо подчеркивая его таинство, невыразимость и непостижимость.
В Послании к Евреям говорится, что Крестная жертва Христа является началом Его прославления: Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога (Евр. 10, 12). Или: «Вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Престола Божия» (Евр. 12, 2).
Крестная смерть Христова, являясь предпосылкой Его Воскресения, дорогой к нему, неразрывно связана с Воскресением и не мыслится без него. Этому учит нас Сам Христос: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24). И в благочестии Православной Церкви почитание Креста неотделимо от прославления Воскресения: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!» В Воскресении раскрывается радостнотворная сила Креста. «Приидите, вси вернии, — поем мы за каждой воскресной утреней, — поклонимся святому Христову Воскресению. Се бо прииде Крестом радость всему миру». В Воскресении спасительное дело Христово.
Его победа над смертию и адом активны и действенны, и поэтому Воскресение Христово есть высший этап Богочеловеческого домостроительства, начинаемого Воплощением и завершенного Вознесением. Правда, уже на Кресте Христос сказал: Совершилось! (см. Ин. 19, 30), но ведь для Него предстоящие смерть и воскресение составляли единое спасительное дело. Вот почему Воскресение — важнейшая часть спасительной миссии Христа стала главным содержанием апостольской проповеди, той, по выражению митрополита Московского Филарета, вечной новостью, которую они провозглашали, а Церковь вслед за ними возвещает миру. «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию», — пишет святой апостол Павел Коринфянам (1 Кар. 15, 3-4). И в ареопаге апостол Павел проповедовал афинянам «Иисуса и Воскресение» (Деян. 17, 18). Но и Сам Господь свидетельствовал о Себе: «Я есмь Первый и Последний и Живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти» (Откр. 1, 17-18). Вез веры в Воскресение Христа, Победителя смерти и ада, христианство превращается в бессмыслицу и обман. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщета, тщетна и вера ваша… вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15, 14, 17), — свидетельствует святой апостол Павел.
Спасительное действие Воскресении начинается в Самом Христе и распространяется на весь мир. Добровольно восприняв смерть и «смертию смерть поправ», Христос побеждает её Своим Воскресением из мертвых. Бо-жество Христово не отделяется и по смерти от Его души и тела, с которым Оно соединилось в Воплощении (несмотря на то, что душа после смерти отделяется от тела). «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойникам, и на престола был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный» (из службы Часов).
В Воскресении душа Христа вновь соединяется с телом, и Христос воскресает как единый Богочеловек в полноте Своего Божества и человечества. На телесности Воскресения вера христианская особенно настаивает. Христианству чужда идея отвлеченного бессмертия души и взгляд на человека, как на воплощенный дух, или, даже, как на дух, заключенный в темницу тела. Человек создан изначала как сложное творение; его духовно-телесную природу Сына Божий воспринял Своей Божественной Ипостасью. И воскресает Христос во всей полноте Своего человечества, то есть прежде всего телесно, ибо тело людей подверглось смерти и тлению и, следовательно, в теле надлежало препобедить тление и смерть. Образ Воскресения Христова еще более непостижим для нас, чем Его Крестная смерть. Мы изображаем на иконах рас-пятие Господне и снятие Его со Креста, но подлинной православной иконописной традиции чуждо изображение " самого" момента Воскресения Христова.
Из этого не следует, что Православная Церковь не признаёт исторического характера Воскресения Христа, воспринимая его символически. Воскресение Христово есть несомненный конкретный исторический факт, происшедший однажды в определенном месте и в определенное время. Отрицающий это от-вергает Евангелие, проповедь апостолов и веру. Но вместе с тем Воскресение Xpистовo есть нечто несравненно большее, имеющее сверхисторический смысл, некое непостижимое Божественное действие, творческое и преобра-зующее.
Действительность Воскресения Христова нельзя сводить к внутреннему перевороту, происшедшему в душах апостолов, и к субъективным видениям Воскресшего, выражавшим их состояние. Нет, на третий день гроб воистину оказался пуст, мертвое тело ожило и воскресло, как поведал ангел женам: «Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк. 16, 6). Или: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24, 5-6). И Святая Церковь доныне поет вместе с ангелами: «Мира мертвым суть прилична, Христос же нетления явися чужд» (Великая Суббота).
Но, с другой стороны, Воскресение Христа не есть простое «оживление», когда мертвый возрождается, чтобы впоследствии вновь умереть. Таким были воскрешения Лазаря и других, хотя и они имели прообразовательный смысл и, значит, связаны с Воскресением Христовым, и будущим всеобщим воскресени-ем из мертвых. Воскресение же Христово — это преобразование тела душевного в тело духовное, принадлежащее будущему веку и видимое поэтому только очами, просвещенными светом вары. Тело духовное не отягощено материально, но способно проходить «дверем заключенным». Это не другое тело, а тождественное распятому и пригвожденному ко Кресту, о чем Воскресший Господь засвидетельствовал апостолу Фоме, дав ему осязать на Своем воскресшем теле «язвы гвоздинные» и рану от копья.
Воскресение Христово есть начало всеобщего воскресения мертвых, «ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес» (1 Кор. 15, 16), — говорит святой апостол Павел, проповедуя о Христе, как о Втором Адаме и небесном человеке, противопоставляющемся первому Адаму, согрешившему и умершему. Воскресением Своим Христос воздвизает падшего Адама: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 20-22). Преобразующей силой Воскресения Христова наши тела наметятся и из душевных сделаются духовными, и тленное облечется в нетление.
Всеобщее изменение космоса и переход его из плана бытия материального в бытие духовное из тления в нетление, но отнюдь не развоплощенное, — вот основа нашего понимания силы Христова Воскресения. Святой апостол Павел пишет: «Так и при воскресении мертвых; сеется в тление, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душенное, восстает тело духовное… Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух живо-творящий» (1 Кор. 15, 42-45).
Несмотря на аналогии с миром естественным (прорастание зерна и т. д.), всеобщее воскресение мертвых остается непостижимой тайной, и сила Христова Воскресения выявится полностью в эсхатологической обстановке, когда Христос победит всех врагов Своих и будет Бог всё во всем (1 Кор. 15, 28). Говорю вам тайну, заключает апостол Павел свою главу о воскресении мертвых, не все мы умрем, но всё изменится вдруг во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть навеки» (Ис. 25, 8).
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти — грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15, 51-57). Святой Иоанн Златоуст в своем Слове на Святую Пасху так прославляет окончательную победу Воскресшего Христа: «Воскресе Христос и ты (ад — Авт.) низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жи-тельствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе. Христос возстав от мертвых, начаток умерших бысть».
Спасительная сила Христова Воскресения полностью раскроется во Втором пришествии и всеобщем воскресении из мертвых, ныне невидимым образом действует в мире со времени Воскресения Христова, завершившегося Вознесением Господнем, когда вочеловечившийся Сын Божий Воссел одесную Бога Отца и спосадил на Своем Престоле воспринятую в Свою Ипостась и обоженную Человеческую природу, и послал от Отца Духа Святого, освящающего мир. Спасительная сила Христова Воскресения созидает на земле начало вечной жизни и подготавливает всеобщее воскресение мертвых. Вечная жизнь, по словам Николая Кавасилы, начинается еще здесь, хотя в полноте своей раскроется только в будущем веке.
Сила Христова Воскресения, сила вечной жизни, проявляется прежде всего в Церкви и ее таинствах. В таинстве Крещения, в троекратном погружении и восхождении из воды, мы соумираем и спогребаемся Христу, а затем совоскресаем с Ним. Мы становимся участниками Его смерти и Воскресения. «Все мы крестившиеся во Христа Иисуса, — пишет святой апостол Павел Римлянам, — в смерть Его крестились. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою. Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены я подобием воскресения…» (Рим. 6, 3-5). Уже сейчас мы — обладатели обновленной жизни, дающей нам уверенность в воскресении в последний день: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6, 8-9). Но соумирание и совоскресение со Хри-стом в Крещении тогда бывает действительным, когда мы истинно умираем греху и начинаем новую жизнь. «Так и вы, — поучает нас святой апостол Павел, — почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 11). Крещение есть рождение для вечной жизни: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).
Таинство Евхаристии тоже есть таинство смерти и жизни Христовой и вместе с тем возвещение Его спасительного дела я ожидание Его Второго пришествия: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26). Причастие Святых Тайн Христовых является источником и залогом нашего воскресения, как об этом свидетельствует Caм Господь: «Если не будете есть Плоть Сына Человеческого я пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день… Ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин. 6, 53-54. 58). Вот почему святой Игнатий Антиохийский называет Тело и Кровь Христовы лекарством бессмертия, противоядием, чтобы не умереть (см. к Еф. 20, 2).
В духовной святоотеческой литературе мы находим много свидетельства тому, что уже сегодня сила Христова Воскресения действует в душах и телах святых, предвосхищая всеобщее воскресение. Так, преподобный Иоанн Лествичник, говоря о достигаемом подвижниками бесстрастии, называет его воскресением души прежде всеобщего воскресения. Преподобный Макарий Египетский учит, что царство света и небесный образ, Иисус Христос, таинственно теперь освящает душу и царствует в душах святых и что Христос видим только очами души воистину до дня Воскресения, когда и само тело прославится светом Господним, уже сегодня находящимся в душе человека, чтобы и само тело совоцарилось вместе с душей, и ныне приемлющей Царство Христово (см. Духовные Беседы 2, 5, 81-91, изд. Доррис-Клостерман-Крогер). А преподобный Симеон Новый Богослов в своем Слове на Пасху говорят, что «тайна Воскресения Христа Бога нашего непрестанно таинственно совершается в нас при нашем желании», и объясняет «как Христос погребается в нас, как во гробе, и как, соединяясь с нашими душами, воскресает, совоскрешая и нас с Собою» (Слово огласительное, 13, 36-40). «Когда Он в нас бывает Духом, Он воскрешает нас из мертвых и оживотворяет, и дает нам видеть Себя всецело в нас, бессмертного и неразрушимого» (там же, 13, 120-122). В этих высказываниях духоносных отцов раскрывается действие Христова Воскресения на души отдельных людей.
В православном богослужении значение Воскресения Христова распространяется на всю вселенную, видимую и невидимую. Это легко прослеживается, например, в богослужении Святой Пасхи, «праздника праздников и торжества торжеств», составленном преподобным Иоанном Дамаскином большей частью на основе Слова на Пасху святого Григория Богослова. Воскресение Христово — новозаветная Пасха воспринимается как переход к новому бытию: «Воскресения день! Просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия» (канон Пасхи, песнь 1-я). Весь мир наполняется светом Христова Воскресения: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя. Да празднует убо вся тварь востание Христово, в Немже утверждаемся» (канон Пасхи, песнь 3-я).
Сама пасхальная ночь с ее торжеством, являясь прообразом всеобщего воскресения, имеет глубокий эсхатологический смысл: «Яко воистинну священная и всепразднственная сия спасительная нощь и светозарная, светоносного дне востания сущи провозвестница, в нейже безлетный Свет из гроба всем возсия» (канон Пасхи, песнь 7-я). Наряду с всемирным характером Воскресения в пасхальных песнопениях указывается на необходимость нашего личного участия в страданиях и Воскресении Христовых, чтобы мы смогли разделить и славу Его, я радость, «Вчера спогребохся Тебе, Христе», — поем мы в пасхальную ночь, повторяя слова святого Григория Богослова, — «совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера. Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем» (канон Пасхи, песнь 3-я). Радость пасхальной ночи освещает наши жизни духом братства, любви и всепрощения: «Воскресения день, и просветимся торжеством и друг друга обымем, рцем: «братие», и ненавидящим нас простим вся Воскресением, и тамо возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»
(Журнал Московской Патриархии 1973 № 2, стр. 64)

В программу работ грядущего Всеправославного Предсобора Всеправославное Совещание на острове Родос (24 сентября — 1 октября 1961 г.) внесло следующий раздел:
«В. — Символические тексты в Православной Церкви:
1) Авторитетные тексты в Православной Церкви.
2) Тексты, имеющие относительный авторитет.
3) Тексты, имеющие вспомогательный авторитет.
4) Составление и издание единого Православного Исповедания Веры» [1].
Вопрос о символических текстах в Православной Церкви, об их месте и значении в православном богословии и в православном сознании вообще не является новым для Православной Церкви. Правда, обычно вопрос ставился о так называемых «символических книгах» [2]: существуют ли такого рода «книги» в Православной Церкви и признает ли она за ними какое-то особое значение, между тем как составители вышеуказанного раздела избегают, сознательно очевидно, этого выражения, как спорного и не всеми признаваемого, и пользуются вместо него выражением «символические тексты». Избрание этого термина «символические тексты» произошло, как можно предполагать, не без влияния трудов профессора Догматического и Нравственного богословия Богословского факультета Афинского университета Иоанна Кармириса, много поработавшего в области исследования догматических памятников Православной Церкви, Греческой по преимуществу, — как древнего, так и в особенности новейшего ее периода (после падения Византии). Особенно привлекали внимание проф. Кармириса полемические православные тексты XVI–XVIII вв., направленные против западных вероисповеданий, римо-католицизма и протестантства, равно как и вопрос о влиянии этих инославных исповеданий на православное богословие [3]. Плодом этих многолетних научных изысканий было издание проф. Кармирисом объемистого двухтомного труда (свыше тысячи страниц в целом) на греческом языке под названием «Догматические и символические памятники Православной Кафолической Церкви» [4]. Как видим, проф. Кармирис избегает здесь выражения «символические книги», заменяя его словами «догматические и символические памятники», тем самым избегая соединенных с термином «символические книги» специфических богословских ассоциаций и вместе с тем расширяя предмет своего исследования: помимо полемических исповеданий XVI–XVIII вв., к которым обычно применяется термин «символические книги», проф. Кармирис включает в свой труд ряд других памятников Православной Церкви, так или иначе выражающих ее веру и учение, — символы веры Древней Церкви, догматические постановления Вселенских Соборов, равно как и поместных, утвержденных Вселенскими, исихастские Соборы XIV века, послания патриархов и т. д. Все это мы должны иметь в виду для правильного понимания раздела программы Предсобора о «символических текстах» и употребляемой в нем терминологии. Поэтому-то мы и сочли необходимым так подробно остановиться на трудах проф. Кармириса в начале нашего доклада.
I
Итак, в согласии с мыслью составителей программы Предсобора, мы будем понимать под символическими текстами в Православной Церкви все православные догматические памятники, выражающие от имени Церкви ее веру и богословское учение. Задачей грядущего Предсобора и последующего за ним, если Богу угодно, Вселенского Собора явится, таким образом, выяснение, что именно среди всех многочисленных догматических текстов может рассматриваться как символический текст, выражающий веру и учение Церкви, как Церковь должна к нему относиться и какою степенью авторитетности и обязательности тот или иной текст обладает. И, конечно, поскольку речь идет о догматических памятниках Древней Церкви, ее Символе веры, выработанном и утвержденном на Первом и Втором Вселенских Соборах и закрепленном в неизменной форме на последующих Вселенских Соборах, о догматических постановлениях семи Вселенских Соборов вообще и о такого же рода догматических постановлениях древних Поместных Соборов, утвержденных Шестым Вселенским Собором (точнее, вторым правилом Трулльского Собора 691-692 гг., рассматриваемого как продолжение Пятого и Шестого), особого вопроса не возникает. Догматические определения (оросы — греч.) Вселенских Соборов обладают, несомненно, в Православии непререкаемым и неотменяемым авторитетом, хотя и можно мыслить, что их постановления могут быть на будущих Вселенских Соборах, если таковые будут созваны, пополнены и дополнительно разъяснены, как в древности последующие Вселенские Соборы пополняли постановления предыдущих. Так, например, Второй Собор пополнил и даже видоизменил текст Символа веры Первого Собора, а Пятый и Шестой Соборы пополнили и уточнили христологические определения Третьего и Четвертого Соборов. Вопрос возникает преимущественно о характере и степени авторитетности постановлений Поместных Соборов и других догматических памятников, не утвержденных Вселенскими Соборами: относятся ли они к эпохе Вселенских Соборов или, как это есть в большинстве случаев, к более новым временам. В связи с этим возникает иногда вопрос о самом праве Православной Церкви вырабатывать и утверждать догматические постановления после эпохи Вселенских Соборов. Право это некоторыми оспаривается или потому, что ими отрицается всякое догматическое развитие в Церкви, или потому, что оно признается только в Древней Церкви и само число семи Вселенских Соборов признается ими священным и окончательным, или же, наконец, потому, что Православная Кафолическая Церковь по отпадении от нее Римского Патриархата якобы перестала быть Церковью Вселенскою и одна без Рима не имеет права и не может созывать Вселенские Соборы [5].
С этими мнениями нельзя согласиться. Правда, Православная Церковь отвергает идею догматического развития в том смысле, как ее понимает римо-католическое богословие новейшего времени, начиная с кардинала Ньюмана, которое пытается оправдать новые римские догматы, не содержащиеся в Св. Писании или у древних отцов (как, например, Filioque, непогрешимость папы, непорочное зачатие и т. д.), утверждением, что само содержание веры и Откровения увеличивается в своем объеме в процессе церковной истории так, что то, что было в начале только в зачаточном виде, так сказать, в виде неясных намеков в Писании и Предании, не осознанных еще самою Церковью, в дальнейшем раскрывается, выявляется и формулируется в церковном сознании. Православная Церковь отрицает идею такого развития или эволюции самого содержания веры и Откровения но признает, что истины веры, неизменные по своему содержанию и объему, ибо «вера однажды была передана святым» (Иуд. 3), постепенно формулировались в Церкви и уточнялись в понятиях и терминах. Это — неоспоримый исторический факт, признаваемый даже самыми консервативными православными богословами, как митрополит Макарий (Булгаков).
В подтверждение его достаточно указать на постепенное введение в церковное употребление основных богословских выражений, не встречающихся в Св. Писании. Так, например, слово «кафолический» (для обозначения Церкви) впервые встречается у св. Игнатия Антиохийского (Послание к смирнянам 8, 2 — около 110 г. по Р. X.), слово «Троица» — впервые у св. Феофила Антиохийского (Послание к Автолику 2, 15 — около 180 г.), выражение «Богородица» — впервые в письменных источниках у Ипполита Римского и у Оригена в первой половине III века, хотя народное употребление его более древнее. Еще более позднее происхождение слов «православный» и «православие», они впервые встречаются у Мефодия Олимпийского, в начале IV века. Не говорим уже о термине — «единосущный»; история его очень интересна. Впервые встречаемый у гностиков (Валентина и других) во II веке, термин «единосущный» был отвергнут Церковью в употреблении и понимании еретика Павла Самосатского на Соборе в Антиохии в 270 г., но принят и утвержден в православном его понимании на Никейском Соборе в 325 г. Обычно такое введение в богословское употребление новых терминов или новая формулировка догматов являлись ответом на появление ересей, искажавших церковную веру и предание. Нельзя, однако, возводить это в правило. Новые формулировки вызывались иногда внутренними потребностями самих православных уяснить свою веру и благочестие. Так, можно думать, что выражение «Богородица» возникло в народной среде в Александрии, выражающей им свое благоговейное отношение к Божией Матери и свою веру в воплощение…
Несостоятельно также распространенное «благочестивое» мнение, будто бы только Древней Церкви эпохи семи Вселенских Соборов была дана благодатная сила определять истины веры, а в более новые времена она этот дар утратила. Такое мнение, при всем его кажущемся консерватизме, является бессознательным отголоском протестантского учения о «порче» и «падении» исторической «константиновской» Церкви, противопоставляемой в протестантизме Церкви первоначальной, Апостольской. Но Православная Церковь сознает, что она является подлинным и неумаленным продолжением Древней Апостольской и отеческой Церкви, вернее, что она есть Апостольская и отеческая Церковь нашего времени и что она обладает всей полнотой даров Святого Духа до конца веков. Напомним здесь, с какою силою учил об этой полноте даров Святого Духа, присущей Церкви и в наши дни, великий духовный писатель Х-XI веков преп. Симеон Новый Богослов. Он даже считал величайшей из всех ересей мнение, распространенное и в его время, будто Церковь утратила сейчас ту полноту благодати, которой она обладала в апостольские времена. Правда, он имел в виду прежде всего дар святости и созерцания, но благодать, по ученики Православной Церкви, есть единая сила Божия и все дары Святого Духа соединены друг с другом и неизменны в Церкви по обетованию Христа. Да и как определить исторический предел, после которого якобы начинается в Церкви период упадка? II век — момент определения новозаветного канона, как думают протестанты? V век — период после Халкидона, как склонны считать многие англикане? Или конец эпохи Вселенских Соборов, как считают многие православные, отвергая при этом возможность созыва нового Вселенского Собора, так как Соборов, по их мнению, может быть всего семь, ибо семь — число священное. В доказательство приводятся некоторые места из службы Седьмого Вселенского Собора, где сравнивается седьмочисленность Соборов с семью дарами Святого Духа и т. д. Но ведь подобная аргументация или даже риторика применялась ранее для защиты авторитета Четвертого Вселенского Собора от нападок на него монофизитов. Говорилось, что Соборов должно быть четыре, потому что это число священное по числу четырех евангелистов, четырех рек райских и т. д. Соборов было семь, но никогда Церковь не постановляла, что это число окончательное и что больше Вселенских Соборов не будет.
Еще менее приемлемо мнение, будто бы Православная Кафолическая Церковь не в праве одна созывать Вселенские Соборы после отпадения от нее Римского Патриархата и без участия его в Соборе. Церковь Христова не разделилась из-за отпадения Рима. Как ни прискорбен и даже трагичен был этот откол, полнота истины и благодати не уменьшилась в Церкви из-за него, как она не уменьшилась в Древней Церкви после не менее трагического и прискорбного отделения от нее несториан и монофизитов. Православная Церковь и сейчас сознает свое тождество с Древней Церковью, с Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью Символа веры. И право созывать Вселенские Соборы и выносить на них догматические решения она сохраняет во всей полноте доныне. Тем более, что и в древности, до отпадения Рима, ни один Вселенский Собор не был созван римскими папами или даже по их инициативе, ни один из них не происходил в Риме и ни на одном из них папские легаты не председательствовали, хотя и подписывались первыми под соборными актами, как имеющие первенство чести.
Итак, несомненно, что и после окончания периода семи древних Вселенских Соборов Православная Церковь имела право высказывать догматические суждения и составлять определения по вопросам веры, уточнять и формулировать свое богословское учение. И церковная история нам показывает, что Православная Церковь на протяжении веков действительно так и поступала. Однако, так как за весь этот исторический период, по обстоятельствам, о которых мы не будем здесь говорить, ибо это выходит из рамок настоящего доклада, не был созван ни один Вселенский Собор — вернее, ни один Собор не получил всеобщего церковного признания в качестве Вселенского, — то все эти поместные церковные определения, исповедания веры, послания и т. д., все эти, как принято говорить, «символические тексты», как не рассмотренные и не утвержденные Церковью в ее целом на Вселенском Соборе, лишены авторитетности, бесспорности и всецерковного признания. Ибо только Вселенский Собор, как выражающий собою всю Кафолическую, Вселенскую Церковь, обладает даром, в силу обетований Господа Своей Церкви, по благодати, сохраняемой в епископате апостольским преемством, выносить непогрешимые и авторитетные решения и области веры и придавать такой характер богословским определениям и постановлениям церковных инстанций меньшего масштаба — Поместных Соборов, патриархов и епископов.
Одной из задач будущего Вселенского Собора, следовательно, будет — выделить из всего множества богословских постановлений «послесоборного» периода церковной истории только те, которые могут быть признаны полноценными выразителями православного вероучения, подобными древним догматическим памятникам, признанным семью Вселенскими Соборами. Мерило, на основании которого грядущий Вселенский Собор мог бы произвести такого рода отбор, если его соборное самосознание найдет это нужным, можно мыслить, приблизительно, как следующее:
1) Совпадение по существу рассматриваемых догматических текстов с учением слова Божия, Вселенских Соборов и святых отцов. Церковь свято хранит «веру, однажды» и раз навсегда «переданную святым» (Иуд. 3). «Последуя святым отцам», — так начинают свое знаменитое определение о вере (орос) отцы Четвертого Халкидонского Собора. Таким путем и впредь должно идти подлинное православное богословие. Верность отцам — его основной признак. Не потому только, что они древние отцы, хотя свидетельство древности всегда ценно, а потому, что в их творениях подлинно выражена вера церковная, как ее предвещали пророки, научил Христос словом и делом, проповедали силою Духа Святого апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». И вот эту веру должно неизменно выражать всякое православное исповедание и определение.
2) Всякий «символический текст», достойный быть утвержденным как авторитетное выражение церковной веры, не только должен быть православным по существу, но и по формулировке, по выражению, по обоснованности должен стоять на высоте святоотеческого богословия. Святые отцы были не только исповедниками правой веры, но вместе с тем великими богословами, тонкими мыслителями, глубокими духовидцами и зрителями Божественных тайн. Тексты упадочные, неудачные по форме или выраженные в терминах, не свойственных православному преданию, бедные по богословской мысли, не могут претендовать быть признанными памятниками Православия наравне с древними вероопределениями, выражающими высокое богословие отцов.
3) Наконец, новые тексты, хотя и должны выражать неизменную веру Церкви, «однажды переданную святым», все же не должны быть простым повторением признанных догматических определений, ибо тогда теряется смысл их издания и провозглашения. Они должны давать тождественные по духу, но новые по форме ответы на нововозникшие заблуждения, духовные вопросы и трудности, уточнять или пополнять то, что раньше было недосказано или недостаточно ясно выражено, ибо сам вопрос тогда еще недостаточно созрел или был уяснен в церковном сознании и не существовало еще тех лжеучений, которым нужно было бы противопоставить церковное учение. Только такие символические тексты, верные духу Православия, достаточно совершенные по форме и богословской мысли, новые по вопросам, ими разрешаемым, могут быть выделены и поставлены на одобрение будущего Вселенского Собора для провозглашения их как учительных, авторитетных и общецерковных.
II
От этих предварительных богословских соображений общего характера мы можем перейти к конкретному рассмотрению в историческом порядке главнейших символических памятников Православной Кафолической Церкви и вместе с тем попытаться определить наше к ним отношение, согласно с программой Предсобора, где предлагается распределить их по разным степеням их авторитетности и обязательности (авторитетные тексты, тексты относительного и тексты вспомогательного авторитета). Конечно, мы будем рассматривать только тексты, не составленные и не утвержденные на семи Вселенских Соборах.
Прежде всего, из эпохи, предшествующей Вселенским соборам, у нас имеется древнейший догматический памятник — символ св. Григория Неокесарийского, составленный им около 260-265 гг. Несомненно православный по содержанию, хотя и выраженный более в философских терминах ученика Оригена, нежели в библейских выражениях, как это свойственно церковным символам, он более отражает личную веру св. Григория Чудотворца, чем вероучение Неокесарийской Церкви. Символ веры был хорошо известен отцам IV века, в частности, св. Афанасию Александрийскому, и использован ими в полемике с арианами, так как в нем ярко выражена вера в несозданность Лиц Св. Троицы. Тем не менее, отцы Вселенских Соборов не сочли нужным ссылаться на него в соборных Деяниях или включить его в свои постановления и признать его как официальный Символ Церкви наряду с Никео-Цареградским — отчасти, можно думать, из-за его частного характера, еще более потому, что, по их убеждению, Никео-Цареградский Символ был и должен быть единственным Символом Церкви, незыблемым и незаменимым каким-либо другим текстом, даже если в нем нет ничего противного Православию. Таково, полагаем, должно быть и наше отношение к символу св. Григория Чудотворца, вопреки мнению митрополита Макария (Булгакова), приравнивавшего его — в смысле авторитетности — к вероисповеданиям Вселенских Соборов. Мы должны высоко ценить и любить символ св. Григория Неокесарийского, как древний и яркий по содержанию и форме памятник его и нашей веры, но не придавать ему значения авторитетного и общецерковного исповедания, каким он никогда не был.
Далее, из самой эпохи Вселенских Соборов мы имеем два относительно древних догматических памятника, не известных, однако, Вселенским Соборам и отношение к которым со стороны Православной Церкви понимается многими различно. Это так называемые Апостольский Символ и Символ св. Афанасия Александрийского. Относительно первого из них, так называемого Апостольского, нужно сказать, что хотя он и содержит в себе древние элементы, восходящие к апостольской проповеди (как и все древние символы, впрочем), в действительности является не чем иным, как поздней переработкой крещального Символа Римской Церкви III-V веков. Первоначальный его язык — латинский. В теперешнем его тексте он сформировался не ранее VI-VII вв. на Западе и, хотя и был впоследствии переведен на греческий язык, фактически остался совершенно неизвестным православному Востоку. Он всегда оставался частным, местным, преимущественно крещальным Символом, и на Вселенских Соборах представители Запада никогда не пытались его цитировать или на него ссылаться. Впервые на Ферраро-Флорентийском лжесоборе 1439-1440 гг. латиняне попытались на него опереться, дабы обойти вопрос о Filioque (как известно, в Апостольском Символе член о Святом Духе ограничивается словами «credo in Spiritum Sanctum» и о его происхождении ничего не говорится). Они встретили, однако, отпор со стороны св. Марка Ефесского, заявившего, что этот Символ неизвестен Церкви. Что же касается так называемого Символа св. Афанасия, известного также по первым словам его первоначального латинского текста под именем «Quicuque nult (Иже хощет спастися)», то, хотя о точном времени и месте его происхождения все еще спорят между собою церковные историки, о принадлежности его св. Афанасию не может быть, конечно, и речи. Все говорит против этого: латинский текст оригинала, неизвестность памятника на Востоке, не афанасиевская терминология, отсутствие классического афанасиевского выражения «единосущный», более поздняя христология, отсутствие в творениях св. Афанасия ссылок на этот Символ и, наконец, то, что сам св. Афанасий был решительным противником составления какого бы то ни было другого символа, кроме Никейского, и не стал бы, конечно, противоречить самому себе, составляя свой собственный символ. Наиболее вероятно, что Псевдо-Афанасиевский символ был составлен на латинском языке в VI-VII вв. в южной Галлии, окончательный же текст его был установлен только в IX веке. Учение о Св. Троице изложено в нем в духе блаж. Августина с его приматом сущности над Лицами, так что исходным моментом является не Отец, как в Никейском и других древних символах веры и как о том богословствуют все греческие отцы, а единый Бог в Троице, причем «монархия» Отца как единого Источника и Виновника явно умаляется. Все это типично августиновское богословие, породившее Filioque и завершившееся впоследствии у Фомы Аквинского отождествлением сущности и энергии в Божестве. И действительно, существующий сейчас латинский текст Псевдо-Афанасиевского символа содержит учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, хотя и не в выражении Filioque: «Spiritus Sanctus a Patre et Filio… procedens». Этот символ, впервые упоминаемый на Западе в 660 г. на соборе в Autum, постепенно к IX в. вошел там во всеобщее употребление, но оставался, однако, совершенно неизвестным на православном Востоке. Впервые встретились там с ним в IX-XI вв., когда латиняне стали опираться на него в своих столкновениях с православными греками из-за Filioque, как это было в известном споре между греческими и латинскими бенедиктинскими монахами из-за Filioque на Елеонской горе в 807-808 гг. и при кардинале Гумберте в 1054 г. в Константинополе. Латиняне же в XIII веке перевели Псевдо-Афанасиевский символ с полемическими целями на греческий язык. Впрочем, вскоре появились другие греческие переводы, сделанные православными, где место et Filio было исключено. В таком «исправленном» виде символ приобрел сравнительно большое распространение и авторитет в православном богословии. В славянском переводе (без et Filio, конечно!) его даже стали со времени Симеона Полоцкого печатать в Следованной Псалтири, а в конце XIX века и в греческом Часослове. В последних изданиях его, впрочем, перестали печатать. О значении, которое приобрел Псевдо-Афанасиевский символ в русском богословии XIX в., свидетельствует следующее мнение о нем митр. Макария: «Около того же времени появился символ так называемый Афанасиев…, хотя составленный не на Вселенских Соборах, но принятый и уважаемый всею Церковью». Немного далее он рекомендует, как непреложное основание богословия, наряду с Никео-Цареградским символом и вероопределениями Вселенских соборов символ, «известный под именем св. Афанасия Александрийского, принятый и уважаемый всею Церковью». Последнее утверждение фактически неверно. Никогда и нигде Православная Кафолическая Церковь свое суждение о Псевдо-Афанасиевском символе не высказывала и его не принимала. Более осторожно высказывает свое отношение к Псевдо-Афанасиевскому символу, а также и к так называемому Апостольскому, проф. И. Кармирис. Нисколько не защищая их подлинность и всецело признавая их западное происхождение, он, тем не менее, считает целесообразным официально признать оба символа, хотя и не наравне с Никео-Цареградским, по как древние и досточтимые догматические памятники, не содержащие в себе ничего противного православной вере (после исключения Filioque, очевидно). Такое признание их, хотя в качестве второстепенных источников вероучения, имело бы, по мнению проф. Кармириса, положительное экуменическое значение в наше время, именно вследствие западного происхождения обоих памятников.
С целесообразностью и правильностью такого признания трудно, однако, согласиться. Так называемый Апостольский Символ, конечно, не содержит в себе ничего противного вере, но он явно недостаточен, чтобы быть признанным официальным символом Церкви. Признание его, даже неполное, подрывало бы положение Никео-Цареградского Символа как единственного и неизменного и как единственной основы всяких экуменических переговоров. Церковь не отвергает «Апостольского» Символа. Она, как правильно сказал еп. Марк Ефесский, его просто не знает. И нет причин отступить от этой позиции. Тем более, что тенденция обойти посредством его вопрос о Filioque существует и в наши дни (главным образом, среди англикан, где «Апостольский» Символ довольно популярен). Еще более ошибочным было бы придание каким-нибудь церковным актом общецерковного и официального значения Псевдо-Афанасиевскому Символу. Правда, если выкинуть Filioque, которого в первоначальном тексте, может быть, и не было, как это сделали его православные греческие и славянские переводчики, то ничего прямо противоречащего православной вере в нем нет. В своей христологической части она даже хорошо и точно выражает православное учение послехалкидонского периода. Триадология его носит, однако, августиновские черты, породившие впоследствии ряд уклонений от истины, и потому сам Псевдо-Афанасиевский Символ никак не может быть провозглашен образцом и источником православного учения, хотя бы второстепенным. Было бы потому желательным, чтобы этот Символ перестал бы печататься в русских богослужебных книгах, куда он попал без всякого на то церковного постановления в эпоху господства латинских веяний. В этом отношении нам следовало бы последовать примеру наших братьев греков, переставших печатать его в своем Орологионе.
III
Переходим теперь к эпохе после семи Вселенских Соборов. Здесь, прежде всего, следует остановиться на Константинопольском Соборе 879-880 гг., созванном при патриархе Фотии и папе Иоанне VIII, и на решениях этого Собора. Как по своему составу, так и по характеру своих постановлений этот Собор носит все признаки Вселенского Собора. На нем были представлены все пять Патриархатов тогдашней Церкви, в том числе и Римской, так что этот Собор является последним Собором, общим как для Восточной, так и Западной Церкви. На нем участвовало 383 отца, т. е. это был самый большой Собор со времени Халкидона. Он был созван как Вселенский Собор и называет себя в своих актах «великим и Вселенским Собором». И хотя он не был официально признан Церковью Вселенским, ибо обыкновенно такое признание делалось на последующем Соборе, а его не было, ряд видных церковных деятелей на протяжении веков называли его Восьмым Вселенским Собором: например, знаменитый канонист XII в. Феодор Вальсамон, Нил Фессалоникский (XIV в.), Нил Родосский (XIV в.), Симеон Фессалоникский (XV в.), св. Марк Ефесский, Геннадий Схоларий, Досифей Иерусалимский (XVII в.) и т. д. Более того, и на Западе, как это доказал проф. Дворник в своем известном монументальном труде «Фотианская схизма» и как это принято сейчас в исторической науке, даже римо-католической, этот Собор 879-880 гг. вплоть до XII в. тоже считался Восьмым Вселенским. Никакого отвержения его папой Иоанном VIII и никакой «второй фотианской схизмы» (т. е. разрыва с Фотием Иоанна VIII) в действительности никогда не было; все это — легенды, выдуманные врагами Фотия и только в XII в. принятые на Западе, когда в связи со все возрастающими притязаниями пап на всемирную юрисдикцию, папские канонисты стали считать Восьмым Вселенским собором не Собор 879-880 гг., а антифотианский лжесобор 867 г. Но и по характеру своей деятельности Собор 879-880 гг. также имеет черты Вселенского Собора. Подобно Вселенским Соборам, он вынес ряд постановлений догматико-канонического характера. Так, он:
- Провозгласил неизменность текста Символа веры без Filioque и анафематствовал всех, кто его изменяет. «Итак», постановляет Собор, «если кто, придя в такую крайность безумия, дерзнет излагать другой символ… или сделает прибавку или убавку в Символе, переданном нам от Святого и Вселенского Никейского Собора… анафема да будет». Постановление это тем более многозначительно, что как раз в это время на Западе во многих местах Filioque уже был введен в Символ, а в Болгарии латинские миссионеры настаивали на его введении. Папские легаты не сделали никаких возражений против этого постановления Собора.
- Признал Седьмым Вселенским Собором второй Никейский Собор против иконоборцев 786-787 гг.
- Восстановил сношения с Римскою Церковью и признал законность патриарха Фотия, тем самым косвенно осудив антиканоническое вмешательство пап Николая I и Адриана II в дела Константинопольской Церкви.
- Разграничил власть Римского и Константинопольского Патриархов и отвергнул притязания епископа Римского на юрисдикционную власть на Востоке, не признав за ним право принимать в свою юрисдикцию и оправдывать своею властью клириков, осужденных на Востоке (как и обратно, принимать на Востоке клириков, осужденных на Западе). И, что особенно важно, Собор вместе с тем запретил всякое в будущем изменение канонического положения Римского епископа.
Таковы догматико-канонические решения Константинопольского Собора 879-880 гг. Значение их как символического памятника Православной Церкви несомненно. Представляется весьма желательным, чтобы будущий Вселенский Собор провозгласил и вынесший их Константинопольский Собор 879-880 гг. Восьмым Вселенским Собором, как бывший таковым по своему составу и как выразивший исконную веру всей Церкви в вопросе о Символе веры и правах римского епископа в связи с возникшими тогда вопросами о прибавке Filioque и о притязании пап на всемирную юрисдикцию. Тем самым и постановления этого Собора как Собора Вселенского получили бы всецерковную и неоспоримую авторитетность, а грядущий Вселенский Собор мог бы считаться девятым. Такое решение о провозглашении Собора 879-880 гг., правильно понятое, могло бы иметь положительное экуменическое значение и даже послужить основой диалога с римо-католиками. Ведь тем самым наше единение с Римом на Вселенских Соборах продлится еще на сто лет (т. е. на время от седьмого до восьмого Вселенского Собора), и у нас будет с Западом не семь, а восемь общих Вселенских Соборов, если только Рим согласится вновь признать Собор 879-880 гг. Вселенским, как он это сделал в свое время в лице папы Иоанна VIII. Будем надеяться, что современная римо-католическая историческая наука поможет ему это сделать.
Из последующих Поместных соборов, вынесших решения богословско-догматического характера, следует отметить Константинопольские Соборы, созванные при императоре Мануиле Комнине в 1156 и 1157 гг. для обсуждения евхаристических вопросов и разногласий в понимании заключительных слов молитвы перед Херувимской песнью «Ты бо еси Приносяй и Приносимый» и о том, кому приносится евхаристическая жертва: Богу Отцу или всей Св. Троице. На первом из этих Соборов участвовали два патриарха — константинопольский Константин IV и Иерусалимский Николай — и 24 архиерея, а на втором тоже два патриарха — Константинопольский Лука Хрисоверг и Иерусалимский Иоанн, — архиепископы Болгарский и Кипрский и 35 архиереев. Это был первый Собор в Православной Церкви, специально рассматривавший учение об Евхаристии (если не считать Трулльского Собора, косвенно и скорее с обрядовой стороны коснувшегося его в своих 101, 23 и 32 правилах). Он определенно учит об Евхаристии как о жертве, а не только воспоминании о ней, и об единстве этой жертвы с принесенной на Кресте, как это выражено в его соборных анафематствованиях: «Не понимающим правильно слова «воспоминание» и дерзающим говорить, что оно обновляет мечтательно и образно жертву Его Тела и Крови… и потому вводящим, что это иная жертва, чем совершенная изначала… анафема». Соборное решение углубляет и уясняет наше понимание искупительного дела Богочеловека Христа и соотношение его с Лицами Св. Троицы. Очень важно, что богословие Собора, верное святым отцам, но не опасающееся вместе с тем освещать новые вопросы, опирается в своих решениях и на литургические тексты, утверждая тем самым их значение как источника церковного богословия. А включение этих решений в провозглашения «вечной памяти» и анафематствования Недели Православия свидетельствует о принятии Церковью догматических определений Собора. Эти анафематствования провозглашались Русской Церковью до 1766 г., когда чин Православия был заменен новым, в котором имена отдельных еретиков и ересей не упоминались и вместо того произносились другие анафематствования, в большинстве случаев более общего характера. В Греческой Церкви анафематствования эти произносятся и до наших дней, как это видно из текста греческой Триоди. Тем не менее сознание значения догматических решений Собора 1156-1157 гг. в школьном богословии почти утратилось, и в сборниках символических памятников Православной Церкви они опускаются или упоминаются только «мимоходом». Объясняется это отчасти тем, что составители таких сборников интересуются преимущественно текстами, направленными против западных вероисповеданий — римо-католицизма и протестантства, между тем как постановления Собора 1156-1157 гг. направлены против заблуждений, возникших в недрах Византийской Церкви, хотя и не без некоторого западного влияния, как можно думать. С таким ограничительным подходом к символическим текстам согласиться, однако, невозможно. Церковные постановления, принятые против «внутренних» заблуждений, могут иметь не меньшее, а иногда даже большее богословское значение, чем решения о западных вероисповеданиях. Вот почему догматические постановления Собора 1156-1157 гг. должны найти подобающее им место среди символических памятников Православной Церкви, как подлинные и авторитетные выразители ее веры и учения в евхаристических вопросах.
То же и даже в большей степени можно сказать и о так называемых «исихастских» Соборах в Константинополе в 1341, 1347 и 1351 гг. Формально эти Соборы, даже самый большой из них — Собор 1351 г., не были Вселенскими. Фактически на них был представлен почти только один епископат Константинопольской Церкви — в общем от 20 до 50 епископов, судя по числу подписей под Деяниями Соборов, причем некоторые из подписей были даны впоследствии по местам. Правда на Соборе 1347 г. присутствовал иерусалимский патриарх Лазарь, а на Соборе 1351 г. — представитель Антиохийского патриарха Игнатия митрополит Тирский Арсений. О последнем, впрочем, лучше не говорить, так как он вел себя позорно, принял сторону противников св. Григория Паламы и удалился с Собора, не дождавшись его конца. Он даже сделал письменное заявление, в котором оспаривал право Константинопольской Патриархии одной, без участия других патриархов, решать догматические вопросы. Несмотря на это, Антиохийский патриарх Игнатий подписал вскоре акты Собора, так же как и Иерусалимский патриарх Лазарь. Самостоятельные в то время Болгарская и Сербская Церкви не участвовали на этих Соборах, но уже в 1360 г. созванный в Тырнове Собор Болгарской Церкви подтвердил решения Константинопольского Собора 1351 г. То же сделал митрополит Московский св. Алексий при своем утверждении в митрополичьем сане в Константинополе в 1354 г. Собор 1351 г. приобрел вскоре такой авторитет, что известный церковный писатель и канонист XIV в. Нил, митрополит Родосский, даже называет его Девятым Вселенским в своем сочинении «Краткая история Вселенских Соборов» (Восьмой для него, как мы уже видели, Собор 879-880 гг.). Формально с этим трудно согласиться по неполноте представительства на нем Православной Церкви. Тем не менее, по существу, по характеру принятых на них догматических решений. Константинопольские Соборы XIV в., особенно Собор 1351 г., принадлежит к наиболее важным и значительным в Православной Церкви, не уступая по своему значению древним Вселенским Соборам. Верные православному преданию, последуя во всем святым отцам и стоя вместе с тем на высоте святоотеческого богословия, они продолжали и во многом уточнили и впервые соборно формулировали многие стороны богословского учения Церкви, особенно в вопросах, касающихся духовной жизни, благодати и обожения ею человека. Они богословски обосновали возможность причастия человека Божеству и его единения с Ним без впадения в какое бы то ни было пантеистическое смешение Творца с тварью (в этом смысл их учения о несозданной благодати и о непостижимости и неприступности сущности Божией). В богословском отношении своим учением о действиях, или энергиях, Божиих Собор 1351 г. является продолжением VI Вселенского Собора. На его учении о двух действиях или энергиях, Христа — Божественной и человеческой, нетварной и тварной, как это формулировал в своих Актах VI Вселенский Собор, — обосновывает Собор учение о нетварности Божественных энергий. Боголепное различение между сущностью и энергией Божией, простота Божия, не нарушаемая этим непостижимым различием, именование также и энергии «Божеством», учение о Боге как источнике Своих действий и в этом смысле высшем, чем Его энергии, причастность Богу по энергии, а не по существу — вот основные положения, принятые Собором 1351 г. К этому нужно прибавить церковное признание и одобрение на Соборе 134! г. молитвы Иисусовой, как выражающей подлинный дух православного благочестия и свойственной не только монахам, но и всем христианам.
Среди документов, одобренных Собором 1351 г., следует особенно выделить Исповедание веры св. Григория Паламы, в краткой, но совершенной форме выражающей общецерковное учение по всем основным богословским вопросам — как древним, в том числе и об исхождении Святого Духа, так и впервые рассматриваемым на Соборе. Православная триадология выражена в нем особенно ярко и вместе с тем библейски и патриотически традиционно. Если сравнить это Вероисповедание св. Григория Паламы с Псевдо-Афанасиевым символом, то превосходство первого бросается в глаза всякому православно мыслящему человеку, К основным богословским памятникам той же эпохи нужно причислить еще знаменитый Святогорский Томос 1339 г., составленный св. Григорием Паламой и подписанный старцами и игуменами Св. Горы Афонской (среди подписей — сербская, грузинская и сирийская подписи). Строго говоря, этот документ не может быть назван соборным актом, ибо, кроме епископа соседнего с Афоном местечка Иериссо, никто из его подписавших не был тогда в епископском сане. Правда, по крайней мере, трое из них удостоились его впоследствии: св. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникский, Каллист и Филофей, будущие патриархи Константинопольские. Как бы то ни было. Собор 1347 г. одобрил содержание Святогорского Томоса, во многом бывшего источником всех дальнейших, соборных решений, тем самым придав ему значение важного символического памятника. Догматическое значение имеют, конечно, и анафематствования и многолетия Триоди, внесенные в нее патриархом Каллистом в 1352 г., т. е. через год после Собора. В них в краткой форме были формулированы основные богословские положения решений «исихастских» соборов XIV в. Это было церковно-богослужебным признанием этих соборов и придает их решениям большой догматический авторитет. Тем не менее все эти богословские соборные постановления, хотя, конечно, вопреки инсинуациям некоторых римо-католических полемистов, никогда не были отвергнуты Православной Церковью, все же фактически были почти забыты в школьном богословии последующих веков (XVI-XVIII, да и XIX в. в особенности), подпавшем под влияние латинской схоластики или протестантских идей и находившемся в периоде упадка. А если и интересовались «исихастскими спорами» и Соборами XIV в., то не по существу, не по их богословскому содержанию, а преимущественно как эпизодом борьбы против латинян и их попыток вмешиваться в дела Византийской Церкви. Такой подход к «исихастским спорам» особенно свойствен греческим богословам. Даже проф. Кармирис, имеющий несомненную заслугу и заслуживающий нашей благодарности, как первый поместивший акты Соборов 1341-1351 гг. в сборнике символических памятников Православной Церкви, считает нужным объяснить их помещение в своей книге не их значением по существу, а тем, что они «косвенно направлены против латинской церкви». Такой подход, однако, недостаточен и односторонен. Конечно, в последнем итоге учение св. Григория Паламы о различии сущности и энергии Божией несовместимо с системой Фомы Аквината, отождествляющего сущность и действия Божии и рассматривающего благодать не как несозданную Божию энергию, а как тварный дар. И поскольку томистская богословская и философская система была, до недавнего времени во всяком случае, возведена в Римско-Католической Церкви почти что в догмат, соборные решения XIV в. могут рассматриваться как имеющие антиримский характер. Непосредственно, однако, против латинян они не были направлены и, кроме учения об похождении Святого Духа в Исповедании св. Григория Паламы, спорных вопросов между Православной и Римско-Католической Церквами они не касались. Богословские споры XIV в. были результатом столкновения различных течений в недрах самой Византийской Церкви, и только во второй период их развития противники св. Григория Паламы стали пользоваться аргументами из философского арсенала томизма, который к тому времени начал становиться известным в Византии. Поэтому решения Соборов 1341-1351 гг. могут рассматриваться как плод духовного и богословского развития самой Православной Церкви, а не как результат столкновения с инославным миром с его чуждыми Православию проблемами, как это было при составлении Исповеданий XVII в., Петра Могилы и Досифея в особенности. Так как, однако, богословие св. Григория Паламы временно пришло в Православной Церкви в забвение и интерес к нему стал возрождаться только в XX в., необходимо новым соборным актом грядущего Вселенского Собора определить отношение всей Церкви к решениям Поместных соборов XIV в., подтвердить их значение и признать их равными или подобными догматическим решениям древних Вселенских Соборов.
Важным символическим текстом поздневизантийского периода является также Исповедание веры св. Марка Ефесского на Ферраро-Флорентийском лжесоборе 1439-1440 гг. Содержание его он более подробно развил в своем Окружном послании всем православным христианам, написанном им после собора на острове Лимнос в 1440-1441 гг. Хотя Православная Кафолическая Церковь справедливо отвергает Ферраро-Флорентийский собор и причисляет его к лжесоборам, она высоко чтит исповеднические на нем выступления св. Марка Ефесского и видит в них авторитетное выражение своей веры и учения. Устами св. Марка говорило во Флоренции само Православие. Да и по содержанию своему это Исповедание в краткой, выпуклой и яркой форме выражает основные верования нашей Церкви, особенно по спорным вопросам, разделяющим нас с Римом (исхождение Святого Духа, папский примат и т. д.). Все это без излишней полемики и с преобладанием положительного изложения истин веры. Вот почему это Исповедание должно быть причислено к основным символическим текстам Православной Церкви.
IV
Перейдем теперь к послевизантийскому периоду православного богословия с его многочисленными исповеданиями веры, патриаршими посланиями, катехизисами и т. д. Почти все они, кроме катехизисов, имеющих преимущественно учебно-школьный характер, выражают собою реакцию православного богословия и церковной иерархии на протестантские и римо-католические вероучения, с которыми Православной Церкви пришлось в этот период непосредственно столкнуться. Иногда, впрочем, они были результатом «внутренних» столкновений между протестантством и контрреформационным римо-католицизмом, когда оба борющиеся между собою вероисповедания пытались привлечь Православие на свою сторону и опереться на него, вовлекая его в этот чуждый для него «междоусобный» западный спор. Естественно поэтому, что православные богословские памятники этой эпохи имеют полемический, антипротестантский или антилатинский характер. Вместе с тем само их появление у православных объясняется, отчасти по крайней мере, подражанием составлению на Западе так называемых «символических книг», появившихся там в это время, в XVI в. сначала у протестантов (Аугсбургское Исповедание 1530 г. у лютеран, «67 членов или заключений Цвингли» у цвинглиан в 1523 г., Катехизис Кальвина в 1536 г. и его «Женевское соглашение» 1551 г. у реформаторов и весьма многочисленные другие символические документы), а вслед за тем — в ответ на протестантскую символическую литературу — и у римо-католиков (каноны и декреты Тридентского Собора 1545-1563 гг., Исповедание веры того же Собора, Катехизисы Петра Канизия, 1554 г., и Римский, 1566 г.). Вполне естественно, что протестантство, как новое вероисповедание, оторвавшееся от римо-католичества, имело потребность формулировать свою веру в «символических книгах», которые стали адекватными и авторитетными выражениями их новой веры, хотя отношение к ним в протестантизме всегда было внутренне противоречиво, поскольку для самого принципа «авторитета» трудно найти место в протестантизме. С другой стороны, и римо-католики, тоже оторвавшиеся от древнего церковного предания и в развитии своего вероучения и церковных учреждений вступившие в противоречие со Св. Писанием, почувствовали потребность перед лицом появившегося протестантизма и в противовес ему формулировать свои догматические установки, столь отличные от веры и учения Древней Церкви. Отсюда — римо-католические символические книги XVI в., получившие, как одобренные папами, авторитетный и обязательный характер в римо-католицизме, более даже, чем древние постановления, которые они фактически заменили, ибо учительная власть в римо-католицизме принадлежит папе. К тому же и протестанты, разделившиеся вскоре на множество толков, пытались остановить этот процесс дробления изданием множества новых исповеданий веры и «формул согласия» (как, например, лютеранская «Формула согласия 1577-1580 гг.»).
В совсем ином положении находилось Православие в XVI-XVII вв. Как ни низко падал в нем по историческим обстоятельствам уровень богословской образованности и как ни проникали в ее среду инославные влияния, Православная Кафолическая Церковь в основе своей хранила веру Вселенских Соборов и святых отцов, вернее, была Церковью Вселенских Соборов и святых отцов. У ней не было внутренних причин к новым формулировкам своей веры, и если она вступила тогда на путь составления новых исповеданий веры, то причины к тому были, так сказать, «внешние», исторически «случайные» или «практические» — результат ее соприкосновения и даже столкновения с западными исповеданиями, часто занимавшими по отношению к православному миру агрессивную позицию (пропаганда, миссии, дипломатические и политические интриги). Поэтому православные исповедания и патриаршие послания XVI-XVIII вв. не были плодом органического развития православного богословия, каким были, для примера, «паламитские» Соборы XIV в., а попытками дать ответы на вопросы, чуждые часто Православию, но практически ставимые жизнью в результате столкновения с инославным миром, а иногда и на споры между римо-католиками и протестантами, в которых обе стороны стояли на общих предпосылках, не приемлемых для Православной Церкви (как, например, в споре о спасении одною верою или верою и делами). Не станем сейчас подробно говорить об общеизвестном факте, что в борьбе с латинством и протестантством православное богословие было вынуждено вооружиться западным схоластическим богословским оружием и что это, в свою очередь, повело к новому и опасному влиянию на православное богословие не только не свойственных ему богословских терминов, но и богословских и духовных идей. Произошло то, что некоторые богословы, как, например, прот. Георгий Флоровский, называют «псевдоморфозой Православия», т. е. облачение его в не свойственные ему богословские формы мышления и выражения, хотя верность основам Православия при этом все же в общем сохранялась чудом Божиим и даром Святого Духа, пребывающим в Церкви. Это был период глубокого отрыва от святоотеческого предания в богословии (хотя и не в литургической жизни Церкви) и вместе с тем понижения уровня богословия при всем внешнем развитии богословской науки и учености. Это падение богословского уровня ясно ощущается всяким, кто после чтения творений святых отцов или Деяний древних Соборов (до соборов XIV в. и св. Марка Ефесского включительно) переходит к чтению Исповеданий веры XVI-XVII вв. Мы постараемся проследить подробнее эти инославные влияния при рассмотрении отдельных исповеданий и посланий этой эпохи.
Прежде всего, в хронологическом порядке, нам нужно будет остановиться на трех посланиях Константинопольского патриарха Иеремии II к лютеранским виттенбергским богословам Тюбингенского университета, пославшим ему текст Аугсбургского исповедания. Эта переписка (1573-1581 гг.), начатая по инициативе лютеран, ничем, как известно, не закончилась, и в третьем своем послании патр. Иеремия заявляет, что считает продолжение ее бесполезным. Значение ее больше в самом факте, что это была первая непосредственная встреча Православия с протестантизмом, нежели в самом ее содержании. Послания неплохо излагают отдельные положения православного учения, в выражениях мало заметно латинское влияние (впрочем, встречаются «материя и форма» в учении о таинствах, но зато избегается термин «пресуществление» в учении об Евхаристии). Основной недостаток Посланий состоит, однако, в том, что в то время как протестантизм есть, прежде всего, ересь о Церкви (или, вернее, «против» Церкви), патр. Иеремия не развивает никакого православного богословского учения о Церкви и вместо него дает учение о семи таинствах. Нет у него, в ответ на лютеро-августиновское учение о человеке, лежащее в основе лютеранского учения об оправдании, православной патристической антропологии, как и учения о благодати как о нетварной Божией силе. А между тем, как раз здесь можно было бы найти точки соприкосновения с Лютером, который восставал против римо-католического учения о множестве тварных благодатных сил, как посредников между Богом и человеком. Вообще послания ограничиваются опровержением отдельных протестантских заблуждений без попыток понять их основные принципы. Естественно, что такого рода диалог с протестантами не мог быть плодотворен и вскоре прекратился. Тем не менее послания патр. Иеремии II являются ценными историческими памятниками состояния православной богословской мысли XIV в. на Ближнем Востоке, когда она еще не успела подпасть под сильное влияние латинской схоластики. Ценна также та твердость, с которой патр. Иеремия II отстаивает православные позиции. В этом значение его посланий. Придавать им большее значение было бы преувеличением.
Значительно больший интерес представляет собою «Исповедание Восточной, Кафолической и Апостольской Церкви» Митрофана Критопуло, будущего патриарха Александрийского, 1625 г. Оно тоже имеет в виду лютеранство и может быть охарактеризовано как первая попытка богословской оценки лютеранства с православной точки зрения. В богословском отношении это — самый выдающийся символический памятник XVII в., наиболее удачно излагающий православное учение. Это не значит, однако, что в нем нет недостатков. В нем тоже недостаточно богословского синтеза и преобладает полемика по отдельным пунктам. Вместе с тем чувствуется некоторое влияние лютеранства, хотя в основе своей Митрофан Критопуло, конечно, православный. Например, учение о Церкви у него довольно неопределенное, о грехопадении и его последствиях он учит в духе блаж. Августина (отнятие donum superadditum, остается «чистая природа»). В учении о таинствах особенно чувствуется влияние протестантизма или, во всяком случае, желание говорить на языке, для них приемлемом. Признаются только три необходимых таинства — Крещение, Евхаристия, Покаяние, остальные именуются «таинственными священнодействиями», только по «икономии» называемыми Церковью таинствами. В частности, о миропомазании упоминается только мимоходом и не как о таинстве. Нет общего учения об Евхаристии, подчеркиваются больше подробности, хотя и существенные — квасной хлеб, причащение мирян под обоими видами, строгий евхаристический пост и т. д. Следуя св. Марку Ефесскому, Критопуло избегает схоластического выражения «пресуществление» ( metousiwsiV) и говорит только о «преложении» ( metabolh). Высказывается также против поклонения Св. Дарам вне совершения Божественной литургии. Определенно отвергает латинское учение о непорочном зачатии Божией Матери, И, что, пожалуй, наиболее положительно в его Исповедании, излагает учение об искуплении, хотя и без особого в него углубления и последовательности, но в общем духе святых отцов и без латинского учения о сатисфакции.
Латинское влияние чувствуется у него зато в учении о семи степенях священства, включая и низшие степени. Любопытною чертою Исповедания Критопуло является наивный греческий патриотизм, выражающийся в подчеркивании того, что Христа распяли римляне и евреи, а не греки и что Христос «прославился», когда его пожелали видеть эллины. Зато Митрофан Критопуло решительно отвергает притязания Константинопольской патриархии на особое положение и на «примат» в Церкви и настаивает на равенстве, если не всех, то, во всяком случае, четырех восточных патриархов и на том, что только Христос — Глава Церкви, ибо смертный человек не может быть главою Церкви. Очень характерно для Критопуло смешение догматов с нравами и обычаями своей эпохи (т. е. с нравами христианских народов, греков преимущественно, под турецким владычеством в XVII в.). Так, излагая православное учение о браке, он пишет, что у православных о будущем браке сговариваются между собою родители, а жених и невеста не видятся между собою и даже не должны быть знакомы друг с другом до самого брака.
Нужно сказать, что у Критопуло нет вообще учения о Предании, а только об отдельных преданиях — церковных или народных. Можно, таким образом, сказать, что Исповедание Митрофана Критопуло является очень интересным и ценным памятником греческой жизни под турецким владычеством. Как символический текст оно так же ценно, как памятник своей эпохи, в котором вероучение Православной Церкви изложено лучше и под меньшим инославным влиянием, чем в других догматических памятниках той же эпохи. Трудно все же видеть в нем безусловно авторитетный символический текст, ибо в нем, как мы видели, много недостатков и своеобразий времени и места. К тому же Исповедание Митрофана Критопуло, как и послания патр. Иеремии II, не имеет соборного, хотя бы даже поместного характера, а является его личным актом, хотя его автор и занимал самое высокое положение в Православной Церкви. Впрочем, в момент написания своего Исповедания Митрофан Критопуло был еще только иеромонахом, и само Исповедание, посланное им в протестантский университет в Гельмштадт в Германии, было там напечатано только в 1661 г.
В то время как послания патр. Иеремии II и Исповедание Митрофана Критопуло были направлены против лютеран, все другие исповедания XVII в. имеют, прежде всего, в виду кальвинистов. Поводом к их составлению было появление кальвинистского по духу «Восточного Исповедания христианской веры», анонимно изданного Константинопольским патриархом Кириллом Лукарем в Женеве на латыни в 1629 г. и по-гречески в 1633 г. В действительной принадлежности его патриарху Лукарю не приходится сомневаться. Об этом Исповедании было правильно сказано проф. Кармирисом, что «мы имеем в нем дело не с православным исповеданием под кальвинистским влиянием, а, наоборот, с кальвинистским исповеданием под православным влиянием». И действительно, ему место скорее среди символических книг кальвинизма, о которых мы говорили выше, нежели среди православных символических памятников. Исповедание Лукаря вызвало большую смуту в Православной Церкви, особенно на греческом Ближнем Востоке и в южной России. Реакцией на него и опровержением его и были все православные исповедания и послания XVII в. Их можно определить как антикальвинистские полемические документы, использовавшие в целях своей полемики римо-католические аргументы и окрашенные в большей или меньшей степени духом латинской схоластики. Меньше всего этот латинский дух выявился в первом из антилукаревских документов — постановлении Константинопольского Собора 24 сентября 1638 г., предавшем анафеме Кирилла Лукаря и подписанном тремя патриархами и 20 митрополитами. Резкое по форме и краткое по содержанию, оно хорошо излагает православное учение о преложении Св. Даров, избегая при этом латинского термина «пресуществление». Большую известность приобрело, однако, так называемое «Православное Исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной». Составленное первоначально на латинском языке Киевским митрополитом Петром Могилой и его ближайшими сотрудниками — Исаией Козловским и Сильвестром Коссовым, одобренное в 1640 г. на Соборе в Киеве, созванном Петром Могилой, оно было послано на утверждение Константинопольскому патриарху Парфению и передано последним на рассмотрение Поместному Собору в Яссах в 1641-1642 гг. Там латинский текст был переведен на греческий разговорный язык ученым богословом Мелетием Сиригом, Он его порядочно переделал, выкинув или изменив наиболее очевидные латинские отступления от православной веры первоначального текста, как, например, о времени преложения Св. Даров, о чистилище и т. д. Переделка эта была сделана, однако, очень поспешно, да и сам Мелетий Сириг, хотя и был убежденным противником Римско-Католической Церкви, находился, как воспитанник Падуанского университета, под латинским влиянием в богословии. Естественно, что «чистка», произведенная им в латинском тексте митр. Петра Могилы, не могла быть достаточной, и греческое Православное Исповедание, даже в таком исправленном виде, все же остается наиболее «латиномудрствующим» текстом из символических памятников XVII в. В таком переработанном виде оно было одобрено в Константинополе патриаршим письмом от 11 марта 1643 г., подписанным четырьмя восточными патриархами и 22 архиереями и посланным митр. Петру Могиле в Киев. Последний, однако, не согласился с внесенными в текст изменениями и отказался признать и опубликовать присланное ему исправленное Православное Исповедание. Вместо него он опубликовал в 1645 г. свой «Малый Катехизис», где вновь возвращается к своим латинским заблуждениям. Как бы то ни было, Православное Исповедание оставалось в Русской Церкви неизвестным вплоть до 1696 г., когда оно было переведено в Москве с греческого на церковнославянский язык при патриархе Адриане.
Обращаясь теперь к самому содержанию Православного Исповедания, можно сказать, что в основном и по существу оно, конечно, является православным символическим памятником своей эпохи и во всех спорных вопросах, разделяющих православных с римо-католиками, как, например, Filioque, папский примат, или с протестантами, как почитание свв. икон и мощей, призывание святых, таинства и т. д., оно всегда придерживается православного учения. Это вполне понятно, иначе оно было бы отвергнуто Православной Церковью, а не подписано столькими патриархами и епископами. Это не мешает ему быть ярко латинским документом по форме, а иногда и по содержанию и по духу. Следуя в своем изложении известному римо-католическому катехизису Петра Канизия, о котором мы упоминали выше, и почти буквально заимствуя у него целые страницы, особенно в нравственной своей части, Православное Исповедание всецело усваивает латинскую схоластическую терминологию, как, например, материя и форма таинства, намерение (intentio) совершающего таинство как условие его действительности, пресуществление (transsubstantiatio), аристотелевское учение о субстанции и акциденциях для объяснения пресуществления, учение о совершении таинств ех ореrе ореrato и т. д. Приведем место о пресуществлении, как пример терминологической латинщины: «Находится в Божественной Евхаристии… Сам Сын Божий по пресуществлению, так что сущность (субстанция) хлеба прелагается в сущность (субстанцию) Св. Тела Его, а сущность (субстанция) вина — в сущность (субстанцию) Честной Крови Его. Поэтому должно славить и поклоняться Св. Евхаристии подобно, как и Самому Спасителю нашему Иисусу». Последние слова о поклонении св. Евхаристии очень неясны и легко могут быть поняты в смысле римо-католического учения о поклонении Св. Дарам вне литургии. Латинским является учение Православного Исповедания о «неизгладимой печати» священства, а также учение о том, что душа человеческая каждый раз созидается особым творческим актом Божиим при зачатии человека, так называемый «креационизм». Православное Исповедание выдает это учение за единственно возможное. А между тем, у греческих отцов преобладает другая точка зрения на происхождение души, такого же взгляда держится и православное богословие. Во всяком случае в Православии учение о происхождении души не есть догмат. Неудовлетворительно изложено в Православном Исповедании учение об оправдании верою и делами с римо-католическим противопоставлением их и с «наемническим» взглядом на дела. Такой же характер наемничества и сатисфакции имеет и учение Православного Исповедания об епитимии как необходимой части исповеди. Наиболее сильно латинское влияние в нравственной части Православного Исповедания, где мы встречаемся с неизвестным в православном предании учением о так называемых «церковных заповедях», отличных от заповедей Божиих. Впрочем, и здесь в латинские формы Православное Исповедание старается вложить православное содержание. За немногими исключениями (Василий Великий, Псевдо-Дионисий, Псевдо-Афанасий, Августин), в Православном Исповедании почти полностью отсутствуют ссылки на святых отцов — характерный признак отрыва от святоотеческой традиции, чувствующегося во всем богословии этого символического памятника. Можно также сказать, что наиболее характерным для него является не присутствие в нем тех или иных неточностей или уклонений от православного богословия — в конце концов, они все же второстепенного значения, сколько отсутствие всякого богословия, скудость богословской мысли. Возьмем два примера. Всякий, знакомый с латинствующим направлением Православного Исповедания, естественно, ожидает найти в нем схоластическое учение об искуплении и крестной смерти Господа как удовлетворении («сатисфакции») гнева Божия за преступление Адама. На самом деле, однако, в Православном Исповедании его нет, по крайней мере в развитом виде, хотя оно и подразумевается во многих местах. Дело в том, что в нем нет никакого богословия искупления, все ограничивается «мозаикой» цитат из Св. Писания и несколькими несвязными между собою замечаниями. Другой пример — догмат о почитании свв. икон. В объяснении его Православное Исповедание ограничивается указанием, что почитание свв. икон не нарушает второй заповеди, ибо одно дело — поклонение ложным богам и их кумирам, что запрещено второй заповедью, а другое дело — почитание Христа, Божией Матери и святых и изображения их на иконах. Такое почитание хорошо и полезно, ибо помогает вознести ум к изображаемому первообразу. А между тем, у святых отцов — преп. Иоанна Дамаскина и преп. Феодора Студита — иконопочитание обосновано, помимо вышеуказанных аргументов, прежде всего, действительностью воплощения и вочеловечения Сына Божия и учением о Божественных образах. Сын, будучи предвечным Образом Отца, открывает Его твари. В воплощении Он принимает образ человека, созданного по образу Божию, становится настоящим человеком. Поэтому мы и изображаем Христа по человечеству, исповедуя тем действительность воплощения, веру в Сына Божия, ставшего видимым и изобразимым и открывающим нам Отца, Образом Которого Он является. Все это глубокое святоотеческое богословие отсутствует в Православном Исповедании, и никакого отношения между воплощением и иконопочитанием оно не устанавливает. Мы можем в качестве заключения сказать, что, хотя у нас нет достаточных оснований отвергать Православное Исповедание как исторический памятник, сыгравший положительную роль в деле защиты Православия от его врагов в XVII в., видеть в нем авторитетный символический текст и источник православного богословского учения мы не можем.
Почти такой же латинствующий характер имеет и другой символический памятник XVII в. — Исповедание веры Иерусалимского патриарха Досифея, более известное у нас (в соединении с другими документами) под именем «Послание патриархов восточно-кафолической Церкви о православной вере». Поводом к составлению этого Исповедания послужили конфессиональные споры между римо-католиками и кальвинистами во Франции. Та и другая сторона стремилась доказать, что ее вероучение разделяется восточными православными. А так как на Ближнем и Среднем Востоке интересы римо-католиков защищала Франция, а кальвинистов — Голландия, то послы этих держав в Константинополе оказывали давление на Константинопольскую патриархию в целях добиться от нее текста исповедания веры, благоприятного для конфессии, ими представляемой, чтобы использовать его для борьбы с противником. Итак, в результате настойчивых домогательств французского посла в Константинополе графа de Nointel, настаивавшего, чтобы Православная Церковь выявила бы свое отрицательное отношение к кальвинистскому Исповеданию Кирилла Лукаря, собрался там в январе 1672 г. Поместный Собор под председательством Константинопольского патриарха Дионисия IV и с участием трех других восточных патриархов и около 40 епископов, составивший томос о вере в антикальвинистском духе. Вскоре после этого, в марте того же года, участник Константинопольского Собора — Иерусалимский патриарх Досифей — продолжил антикальвинистскую акцию этого Собора: воспользовавшись обстоятельством прибытия в Иерусалим архиереев и духовенства, съехавшегося туда на празднества освящения храма Рождества Христова в Вифлееме, представил на одобрение собравшихся составленное им Исповедание веры. Они одобрили его своими подписями 16 марта 1672 г. и включили в свое соборное постановление, осуждающее кальвинизм. Документ этот был отправлен в Константинополь французскому послу. Подписан он 69 присутствовавшими, из них всего восемь архиереев с патр. Досифеем во главе (между прочим, среди подписавшихся — архимандрит Иоасаф, представитель царя Алексея Михаиловича, прибывший на праздник). Все эти документы (постановление Константинопольского Собора 1672 г., Исповедание Досифея и его одобрение в Вифлееме) именуются иногда Деяниями Вифлеемского Собора 1672 г., хотя, как мы видим, никакого настоящего собора в Вифлееме не было, а было богослужебное собрание небольшого числа архиереев Иерусалимской патриархии. Константинопольский Собор января 1672 г. тоже не может придать церковной авторитетности Исповеданию патр. Досифея, так как он собрался до его составления, как мы видели. Более широкое церковное признание получило, однако, Исповедание Досифея пятьдесят лет спустя, когда оно было одобрено на Константинопольском Соборе 1725 г. четырьмя восточными патриархами с Константинопольским патр. Иеремией III во главе, включено во второй ответ английским нон-юрорам и послано им через посредство Св. Синода Русской Церкви. По этой причине Исповедание Досифея (и сопровождающие его документы) часто называется у нас Исповеданием или даже Посланием четырех восточных патриархов.
Из всех этих документов остановимся только на Исповедании Досифея, как на представляющем наибольший богословский интерес. Оно, как известно, является ответом на Исповедание Кирилла Лукаря и следует точно, можно сказать, «рабски», за его текстом, в том же порядке и по тем же пунктам противопоставляя православное учение его высказываниям. Этим, конечно, связывается свобода изложения и обусловливается неполнота Исповедания Досифея, этим объясняется отчасти и то, что это Исповедание (в первом своем издании, во всяком случае) направлено исключительно против кальвинистов и совершенно не говорит о римо-католических заблуждениях. У читателя создается впечатление, что еретики — кальвинисты (о них патриарх Досифей пишет в не «экуменических» выражениях) восстали и отделились не от Римско-Католической Церкви, а от Православной и что вообще существуют только православные и протестанты, а римо-католиков не существует или же их учение вполне совпадает с православным. В общем и целом Исповедание Досифея, как и Исповедание Восточной Церкви (Петра Могилы), излагает, конечно, православное учение, иначе и оно не могло было быть утвержденным четырьмя восточными патриархами, но выражает его в заимствованных у латинян формах и со многими уклонениями от православного предания в подробностях. Так, оно, вслед за латинской схоластикой, учит о различных видах благодати — благодать предваряющая (gratia praevenies), особая (specialis), содействующая (cooperativa). Такое различение чуждо святоотеческому преданию. Латинская терминология особенно часто встречается в учении о Евхаристии. Можно сказать, что здесь Досифей даже превосходит Петра Могилу в своем увлечении латинщиной. Вот характерный пример: «После освящения хлеба и вина более не остается сущность (субстанция) хлеба и вина, но само Тело и Кровь Господа под видом и образом хлеба и вина, или, что то же, в акциденциях хлеба и вира». По римо-католическому образцу таинство миропомазания называется словом bebaiwsiV — буквальный перевод на греческий термина confirmatio. Римо-католический характер имеет учение Исповедания и о неизгладимости священства, о разделении Церкви на небесную и воинствующую, так же как и различение между «рабским» поклонением святым и «сверхрабским» поклонением Божией Матери. Не делает Досифей никакого различия между каноническими и второканоническими книгами Ветхого Завета, что тоже не соответствует православному преданию и заимствовано у римо-католиков. Богословское учение об искуплении, как и в Православном Исповедании, совершенно не развито, почти отсутствует, все ограничивается немногими текстами, так что трудно понять, каких убеждений придерживается здесь Досифей. Вероятно, он считал вопрос об искуплении выходящим из рамок антикальвинистской полемики и не счел нужным на нем останавливаться. Но что особенно «коробит» православное чувство в Исповедании Досифея, это — запрещение мирянам читать Св. Писание, особенно Ветхий Завет. В защиту этого запрещения Досифей ссылается на опыт Церкви, якобы убедившейся во вреде, происходящем от чтения Св. Писания мирянами, и пытается оправдать его утверждением, что, как сказано в самом Писании, спасение от «слышания слова Божия», а не от его чтения. Излишне говорить, что «опыт», о котором здесь идет речь, есть «опыт» Римско-Католической, а не Православной Церкви. Там он понятен, ибо церковный строй, да и учение Римско-Католической Церкви действительно не находятся в согласии с Писанием, и миряне не должны этого знать, но в Православии это не так, ему нечего бояться Св. Писания. Не говорим о том, что этот «опыт» запрещения чтения Св. Писания оказался очень неудачным и был одной из причин, вызвавших отпадение от Римско-Католической Церкви протестантов. А ссылка на то, что спасение не от чтения, а от «слушания», — не что иное, как софизм. Во всяком случае, нигде в святоотеческом предании и постановлениях Древней Церкви нельзя встретить каких-либо указаний о вреде чтения слова Божия. Интересно отметить, что в русском переводе Исповедания Досифея, сделанном в 1838 г. митрополитом Филаретом, место о запрещении мирянам читать Библию выпущено.
Да и сам патр. Досифей осознал и открыто признал со временем недостатки своего Исповедания и в третьем его издании (Яссы, 1690 г.) сделал в нем ряд изменений и дополнений, направленных против римо-католиков, о которых он в первоначальном своем тексте, как мы уже сказали, ничего не говорит. Так, он изменил статью 18, где развивалось учение, близкое к римскому учению о чистилище, высказался, правда косвенно, против учения о папе как главе Церкви («смертный человек не может быть вечной главой Церкви» — ст. 10), добавил к первоначальному тексту запрещение «прибавлять или убавлять что-либо к тексту Символа веры» и т. д. Все это, несомненно, улучшает первоначальную редакцию Исповедания. Но вместе с тем превращает ее в только личный документ, так как на «Соборе» в Вифлееме был одобрен еще не исправленный его текст. Правда, восточные патриархи в 1723 г. одобрили исправленный текст, но тут же, в сопроводительном письме к англиканам, ссылаются на парижское издание Исповедания 1672 г., т. е. на еще не исправленный текст. Все это ограничивает значение Исповедания Досифея как соборного документа. А его многочисленные богословские недочеты, равно как и случайный характер его возникновения, побуждают смотреть на него более как на исторический памятник XVII в. символического содержания, нежели как на авторитетный и обязательный символический текст непреходящего значения.
Мы не будем останавливаться подробно на других символических текстах, изданных в XVIII-XIX вв. восточными патриархами и их синодами. В отличие от документов XVII в. они направлены, главным образом, против римо-католиков, хотя некоторые из них имеют в виду протестантов. Отметим главнейшие из них: а) Окружное послание патриархов Иеремии III Константинопольского, Афанасия III Антиохийского, Хрисанфа Иерусалимского и семи архиереев Константинопольского Синода к христианам Антиохии против римо-католиков и униатской пропаганды, 1722 г.; б) Исповедание веры Константинопольского Синода 1727 г. под председательством патриарха Паисия II Константинопольского с участием Сильвестра, патриарха Антиохийского, и Хрисанфа Иерусалимского и 11 архиереев Константинопольского Синода. Направлено тоже против римо-католиков. Автором этого, как и предыдущего, документа является Иерусалимский патриарх Хрисанф; в) Окружное послание патриарха Константинопольского Григория VI, Иерусалимского Афанасия и 17 архиереев Константинопольского синода против протестантов, 1838 г.; г) Окружное послание тех же лиц против латинских новшеств, 1838 г.; д) Ответ папе Пию IX в 1848 г. четырех патриархов: Анфима VI Константинопольского, Иерофея II Александрийского, Мефодия Антиохийского и Кирилла II Иерусалимского, утвержденный Синодами Константинопольской, Антиохийскон и Иерусалимской Церквей (29 подписей архиереев); е) Ответ папе Льву XIII в августе 1895 г. патриарха Константинопольского Анфима и 12 архиереев его Синода. Все эти послания являются ценными свидетельствами постоянства веры Православной Церкви в трудную для нее эпоху турецкого владычества, важными историческими документами борьбы ее против агрессии Рима в первую очередь. Написанные по конкретным случаям, они обыкновенно имеют не систематически богословский, а народно-миссионерский, апологетический характер. Они не дают общего обзора православного вероучения в отличие его от римо-католицизма или протестантизма, но ограничиваются рассмотрением, иногда более полным, иногда частичным, существующих между ними отдельных разногласий. Существенное тут не всегда различается от второстепенного, богословская и историческая аргументация не всегда на одинаковой высоте, что объясняется обстоятельствами времени. Но в общем они хорошо защищают православную веру. Вот какие указываются в Послании 1895 г. римо-католические уклонения от древней веры: Filioque, примат и непогрешимость папы, крещение через окропление, опресноки, отсутствие эпиклезиса, причащение мирян под одним видом, чистилище, сверхдолжные заслуги, полное блаженство праведников до всеобщего воскресения, непорочное зачатие Божией Матери. Все эти послания, принятые в лучшем случае четырьмя восточными патриархами, даже с участием их синодов, как это было в 1848 г., одной Константинопольской Церковью в большинстве случаев, без участия Русской Церкви и других автокефальных Церквей, не обладают сами по себе общецерковным авторитетом, в качестве точных и полных изложений православного вероучения, но пользуются общим уважением, как исторические памятники догматического характера.
V
Общей чертой всех этих исповеданий веры и посланий XVI-XIX вв. было, как мы видели, то, что они были составлены восточными патриархами без участия Русской Церкви (Православное Исповедание не составляет исключения, ибо автор ее — Петр Могила — был митрополитом не Русской, а Константинопольской Церкви, да и текст Исповедания был изменен, правда, к лучшему, греками без ведома его). Тем не менее они не оспаривались в Русской Церкви, а некоторые из них получили в ней и русском богословии особое значение, так что их стали даже иногда называть «символическими книгами». Это, прежде всего, — Православное Исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной и Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере (Исповедание Досифея). К этим двум памятникам стали прибавлять, в качестве третьей символической книги, Пространный Катехизис митрополита Филарета. Таково было убеждение митрополита Макария (Булгакова). «Постоянным руководством, — пишет он, — при подробнейшем изложении догматов в православно-догматическом богословии должно признавать 1) Православное Исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, 2) Послание восточных патриархов о православной вере и 3) Пространный христианский Катехизис». И в другом месте: «Православное Исповедание поистине составляет эпоху в… истории (православного богословия). Доселе сыны Церкви Восточной не имели особой символической книги, в которой бы могли находить для себя подробнейшее руководство, данное от имени самой Церкви, руководство в деле веры. Православное Исповедание Петра Могилы… явилось первою символическою книгою Восточной Церкви. Здесь в первый раз изложены все догматы от ее имени в возможной точности… Здесь, следовательно, дано подробнейшее и вместе надежнейшее руководство в деле веры, как всем православным, так, в частности, и православным богословам при обстоятельном раскрытии догматов». Профессор П. П. Пономарев также выделяет эти три памятника из других символических текстов, хотя и высказывается о них значительно более осторожно, чем митр. Макарий. Ссылаясь на то, что Св. Синод одобрил их в качестве «руководства», но «не именует открыто символическими книгами», Пономарев пишет в своей статье в Богословской энциклопедии, что, «выдерживая строго характер воззрения Св. Синода, следует на означенные памятники смотреть именно как на руководство к приобретению богословского познания, а пользуясь выражением ученых, — называть символическими книгами, но только в относительном, а не абсолютном смысле слова» и при этом «под непременным условием точного согласия их по содержанию с древневселенским учением». Но и с таким ограниченным выделением согласиться трудно. Относительно Православного Исповедания и Исповедания Досифея не будем повторять, что уже было сказано нами о их содержании, достоинствах и недостатках. Критерия сравнения с «древневселенским учением» они во всяком случае не выдерживают ни в смысле точности, ни в смысле уровня богословской мысли. Многие символические тексты эпохи после Вселенских Соборов несравненно ценнее их. Да и «приятие» их Русской Церковью относительное и сравнительно позднее. Правда, Православное Исповедание было издано в Москве в 1696 г. при патр. Адриане и на него, как и на Исповедание Досифея, ссылается Духовный регламент Петра Великого в 1722 г. Трудно, однако, придавать церковное значение свидетельству Духовного регламента, ибо он сам нуждается в свидетельстве о православии и церковности. Как бы то ни было, оба Исповедания не пользовались почти никаким влиянием в русском богословии до 30-40-х годов XIX в., т. е. до эпохи обер-прокурора Св. Синода графа Протасова.
Воспитанник иезуитов и находившийся под латинским влиянием, Протасов желал ввести в Русской Церкви порядки по римскому образцу. Ему хотелось, чтобы в области богословия у нас существовали обязательные подробные руководства, как это имеется в Римской Церкви. С этой целью он и начал выдвигать идею об авторитетности «символических книг» — Православного Исповедания Петра Могилы и Исповедания Досифея, тем более, что их латинообразное обличие было близко его сердцу. Как бы то ни было, как правильно отмечает Пономарев, «особенное внимание Русской Церкви к Православному Исповеданию выпадает на 30-40-е годы XIX столетия, с какого времени собственно начинается и специальная трактация его на Руси в трудах русских ученых богословов (правда, не во всех)», как мы это увидим. В 1837 г. решением Синода Православное Исповедание переводится на русский язык. В следующем 1838 году тем же решением переводится и Исповедание Досифея, и с тех пор начинается их широкое и обязательное распространение в духовной школе и богословии.
Что касается Катехизиса Филарета, мы, конечно, не можем дать здесь подробный богословский разбор этой книги. Скажем только, что по своему богословскому уровню он, несомненно, выше Православного Исповедания и Исповедания Досифея, на которые он ссылается в последней своей, «протасовской» переработке. Как известно, текст Катехизиса, изданного в 1823-1824 гг., дважды подвергался изменениям. В издании 1827-1828 гг., когда, впрочем, дело ограничилось заменой библейских и святоотеческих цитат на русском языке церковнославянскими, и 1839 г., когда были произведены более существенные изменения в тексте по настоянию обер-прокурора Протасова в сотрудничестве с митрополитом Серафимом (Глаголевским) и другими членами Св. Синода. Нужно сказать, что «исправление» Катехизиса в духе его большей латинизации и согласования с Исповеданиями Петра Могилы и Досифея не всегда было удачным. Так, в этом издании к слову «прелагаются» (о Св. Дарах) было добавлено «или пресуществляются». Правда, вслед за тем слово «пресуществление» объясняется, с ссылкою на Исповедание Досифея, в православном духе в смысле непостижимого и действительного преложения, тем не менее можно только жалеть о внесении в Катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина. Еще более неудовлетворительно для православного сознания изложено учение об искуплении в понятиях «бесконечной цены и достоинства» крестной Жертвы и «совершенного удовлетворения правосудия Божия». Все же во всем следовать Исповеданию Петра Могилы митр. Филарет отказался и, несмотря на оказываемое на него давление, не включил в свой Катехизис встречаемого, как мы видели, в Православном Исповедании латинского учения о так называемых «церковных заповедях». В общем, при всех своих недостатках, Катехизис Филарета является выдающимся по ясности изложения памятником русского богословия, но выделять его из множества других символических текстов и возводить в степень «символической книги» было бы неправильно. Ибо, как мы видели, в нем имеются недостатки, да и сам Св. Синод в своем одобрении Катехизиса не называет его «символическою книгою», а ограничивается рекомендацией его в качестве «руководства». К тому же авторитет и значение Катехизиса Филарета ограничивается Русской Православной Церковью. Вне ее, особенно у греков, он мало известен. На него нельзя смотреть как на символический памятник общеправославного значения.
VI
Характерной чертой русского богословия второй половины XIX — начала XX в. является его стремление освободиться от западных инославных влияний — будь то влияние немецкого протестантизма или путы латинской схоластики. Это направление боролось, прежде всего, против латино-протестантского учения об искуплении как удовлетворении величия Божия, оскорбленного грехопадением Адама, против внешне юридического понимания спасения и стремилось противопоставить ему святоотеческое учение. Непосредственно течение это было направлено против «Православно-догматического богословия» митр. Макария, где такое понимание искупления нашло свое классическое в русской богословской литературе выражение. Косвенно оно затрагивало и Катехизис Филарета и, в гораздо большей степени, оба символических памятника XVII в. — Православное Исповедание Петра Могилы и Исповедание веры Досифея. Хотя сатисфакционно-юридическое понимание искупления в них, как мы видели, богословски не развито, в обоих символических памятниках справедливо усматривали яркое проявление латинствующего духа, ответственное в конечном итоге за богословие Макария. Для характеристики этого антилатинского направления в нашем богословии достаточно указать на такие произведения, как «Православное учение о спасении» архимандрита, будущего патриарха, Сергия (Страгородского), сходные по духу богословские статьи митр. Антония (Храповицкого) или известная книга иеромонаха Тарасия (Курганского) «Великороссийское и малороссийское богословие XVI-XVII вв.». Ценную критику нашего школьного богословия, сложившегося на «символических книгах» и на догматике Макария, можно найти в интересных возражениях проф. А. И. Введенского на диспуте 9 апреля 1904 г. в Московской духовной академии при защите прот. Н. Малиновским своей магистерской диссертации «Православное Догматическое богословие», чч. I и II, опубликованных в «Богословском вестнике» под заглавием «К вопросу о методологической реформе православной догматики». Но в наиболее яркой форме это восстание против «Макария» (и тем самым против Исповеданий XVII в.) выражено в интересной, хотя и односторонней, речи архимандрита, в будущем архиепископа, Илариона (Троицкого), произнесенной 12 сентября 1915 г. в Московской духовной академии на тему «Богословие и свобода Церкви. О задачах освободительной войны в области русского богословия». Отметив, что наша критика римо-католицизма носила обычно частичный характер (это замечание вполне применимо к богословской манере символических памятников XVII в.), архиеп. Иларион говорит: «Католических ересей насчитывали целые десятки, но не указывали основного пагубного заблуждения латинства». И далее он обрушивается на основные сотериологические положения схоластического богословия: «В схоластическом учении о спасении, прежде всего, должны быть снесены до основания два форта, два понятия: удовлетворение и заслуга. Эти два понятия должны быть выброшены из богословия без остатка, навсегда и окончательно». И заканчивает следующим пламенным призывом: «На борьбу с этим-то вредным латино-немецким засильем и его печальными плодами в нашем богословии и я считаю своим нравственным долгом вас призвать».
Конечно, не все в критике «макариевского» богословия было одинаково удачно. Так, например, митр. Антоний в своей книге «Догмат искупления», со своим «нравственным» толкованием догматов, фактически отрицает искупительное значение крестной смерти Христа, в рамках его богословия она излишня и ее место занимает гефсиманская молитва. А архиепископ Иларион отождествляет все искупительное и спасительное дело Христово с одним воплощением и в своей речи буквально ничего не говорит о крестной смерти Христовой. Он хочет обосновать свое богословие на церковных песнопениях, но цитирует только песнопения Рождества, Богоявления, Благовещения, совершенно игнорируя тексты Страстной седмицы, праздников Креста и даже Св. Пасхи, так что в его концепции нет места не только для крестной смерти, но и для Воскресения Христова, а только для Его Рождества и Воплощения.
Вообще реакции русской богословской мысли конца XIX — начала XX века не хватало подлинного знания патриотического предания в его полноте, положительного раскрытия на его основе догматов Православия. Отсюда ее односторонности и недостатки. Все же схоластика-латинские богословские схемы были осознаны богословами этого времени как несоответствующие церковному пониманию и как неадекватные и неполноценные формы выражения православного вероучения. И тем самым приятию Исповеданий XVII в. в качестве «символических книг» или обязательного руководства в богословии был нанесен решительный удар.
Вопрос о существовании в Православной Церкви «символических книг», выражающих ее вероучение, имеющих обязательное общецерковное значение и равных или подобных по авторитету постановлениям Вселенских Соборов, не раз обсуждался в православном богословии нового времени — как русском, так и греческом. Взгляды некоторых русских богословов мы уже приводили. Добавим, что к сторонникам символических книг и защитникам их авторитетности можно причислить еще проф. А. Тихомирова, прот. Н. Янышева, Е. Попова, И. Соколова, а также известного сербского канониста епископа Никодима (Милаш). Среди отрицающих самое существование символических книг в Православии укажем на проф. Н. Глубоковского. «По существу в Православии, — пишет он, — нет символических книг в техническом смысле слова. Все разговоры о них крайне условны и соответствуют лишь западным вероисповедным схемам, в противоречии с природой и историей Православия. Оно считает себя правильным и подлинным учением Христа во всей его первоначальности и неповрежденности; но тогда какое же особое, отличительное учение может оно иметь, кроме учения Евангелия Христова? Сама Православная Церковь, вплоть до нынешнего времени, не употребляет каких-либо особых «символических книг», удовлетворяясь общими традиционными памятниками, имеющими вероопределительный характер». Не признает авторитетности «символических книг» и современный нам русский богослов проф. прот. Георгий Флоровский. «Так называемые «символические книги» Православной Церкви не обладают обязывающим авторитетом, — пишет он, — как бы часто ими ни пользовались отдельные богословы в разное время. Авторитетность их относительна и производна. И, во всяком случае, они авторитетны не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они согласны с непрерывным преданием Церкви». Особых «символических книг» нового периода Православная Церковь, по мнению прот. Г. Флоровского, не может иметь, ибо она не какая-нибудь новая и особая Церковь, а тождественна Древней Церкви.
В греческом богословии также можно отметить все возрастающую тенденцию к оспариванию авторитетности и обязательности символических текстов XVII века. Так, если богослов конца XIX века З. Росис признавал за ними авторитет, почти равный решениям Вселенских Соборов, то известный и пользовавшийся в свое время большим влиянием проф. X. Андрутсос (1935 г.) относился к ним более сдержанно и придавал им только вспомогательное значение. «В качестве второстепенных источников, — пишет он в своей «Догматике Православной Восточной Церкви», — могут служить (для православного богословия) все вероизложения, составленные на Поместных Соборах, поскольку они согласуются с церковным учением. Таковыми являются так называемые символические книги, написанные по поводу кальвиниствующего Исповедания Лукаря, среди которых преимущественное место принадлежит Исповеданиям Могилы и Досифея». Современные греческие богословы идут еще далее. Проф. П. Трембелас в своей «Догматике Православной Кафолической Церкви» избегает уже слова «символические книги», а говорит только о символических текстах, за которыми признает значение преимущественно исторических памятников. «Сколь ни ниже (эти символические тексты) по авторитету Вселенских Соборов, они не перестают, однако, быть ценными вспомогательными средствами для составления православной догматики, потому что они выражают сознание Православной Кафолической Церкви в эпоху их издания». Проф. И. Кармирис более определенно отвергает существование в Православной Церкви «символических книг», равных по авторитету постановлениям Вселенских Соборов. Он называет их «простыми символическими текстами» и пишет, что «условно называемые, по чужеродному подражанию, символические книги Православной Церкви, естественно, лишены, как не происходящие от Вселенских Соборов, абсолютного, вечного, вселенского и обязательного авторитета символа веры и обладают только относительным, временным, поместным, а не вселенским авторитетом и, с этой точки зрения, могут быть характеризованы, как обыкновенные и имеющие недостатки православные вероизложения, выражающие дух эпохи, когда они были составлены, и удостоверяющие непрерывное во все века продолжение и тождество православной веры».
Интересно отметить, что обсуждение вопроса о символических книгах в Православной Церкви вышло за пределы православных церковных кругов и заинтересовало западную богословскую науку. Имеем в виду любопытный спор между двумя протестантскими учеными — Вильгельмом Гассом и Фердинандом Каттенбушем. Гасс в своем труде «Символика Греческой Церкви» основывал изложение ее вероучения на «символических книгах» XVII в., в частности, Исповеданиях Петра Могилы и Досифея. Такой метод был отвергнут Каттенбушем в своей критике книги Гасса. Каттенбуш утверждал, что особой Греческой Церкви не существует, а что существует Православная Восточная Церковь и что выражение ее учения нужно искать не у Петра Могилы и Досифея, а у великих отцов IV-V вв., когда формировалась специфически греческая традиция в богословии и богослужении. Гасс возражал, что древние отцы принадлежат всей Церкви, а не одной Греческой. Поэтому для «спасения» вероучения Греческой Церкви нужно опираться на ей одной принадлежащие памятники, т. е. Исповедания XVII века. Гасс был, конечно, прав в своем утверждении, что древние отцы принадлежат всей Церкви, но он не понимал и не замечал, что современная Православная Церковь есть продолжение Древней, вернее, она есть сама Древняя Церковь в настоящем, а не особая новая. Поэтому великие отцы древности могут лучше выражать ее веру, чем Петр Могила, Мелетий Сириг или Досифей.
VII
Попытаемся теперь, при свете всего вышесказанного, ответить на вопросы составителей программы Предсобора с их предложением распределить все символические тексты в Православной Церкви на три категории: а) авторитетные тексты; б) тексты, имеющие относительный авторитет; в) тексты, имеющие вспомогательный авторитет. Прежде всего, нам представляется, что в такой трехстепенной классификации с ее разделением на «относительный» и «вспомогательный» авторитет заключается нечто схоластическое, излишне систематическое, желание все распределить по параграфам и категориям. Не думаем, что с православной точки зрения представляется возможным и даже желательным подробное и строгое проведение в жизнь такого принципа в области богословия. Да и сам вопрос об авторитете и авторитетности в Православии очень сложен и ставится в нем иначе, чем в римо-католичестве или протестантстве. Не будем, однако, углубляться в него, это увело бы нас далеко от непосредственной темы нашего доклада… Нам, представляется неоспоримым, что в Православной Церкви имеются тексты несомненной авторитетности и непреходящего значения. Таково, бесспорно, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, хотя и здесь можно делать некоторое различие в смысле авторитетности между Новым и Ветхим Заветом, с одной стороны, между каноническими и другими книгами Ветхого Завета, с другой. Таковы и догматические постановления семи Вселенских Соборов и утвержденный на них Никео-Константинопольский Символ веры. Трудно, однако, согласиться с мнением проф. Кармириса, который называет их равными по авторитету и по чести со Св. Писанием, «как содержащие в себе Священное Предание, которое вместе со Св. Писанием составляет два равно авторитетных и одинаково стоящих источника православной веры». Не потому, что мы хотели в чем-либо умалить значение Символа веры или догматических определений Вселенских Соборов, а потому, что здесь делается сравнение и отождествление по достоинству между двумя сторонами одного и того же первичного явления, т. е. Божественного Откровения, а именно — его выявлением и запечатлением в Писании и догматическими памятниками Церкви, богословски осмысливающими силою Духа Святого это Откровение и дающими ключ к разумению Писаний. Неприемлемо и римо-католическое учение о «двух источниках веры», Писании и Предании, — печальное наследие Тридентского Собора, от которого современное римо-католическое богословие пытается само освободиться. Как хорошо говорит митр. Филарет в своем Катехизисе, Предание есть не источник, а первоначальный способ распространения Откровения, сохраняющий свое значение и для настоящего времени «для руководства к правильному разумению Священного Писания, для правильного совершения таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления». Наконец, при всей незыблемости и обязательности решений Вселенских Соборов как голоса Церкви, выражающей на них свою веру и сознание, исторические обстоятельства и церковная польза могут поставить вопрос о возможности дальнейших разъяснений или даже иных формулировок некоторых догматических вопросов, решенных на Вселенских Соборах, как это мы видим в современных переговорах с так называемыми «монофизитами», конечно, однако, не в смысле отказа от прежних постановлений. Впрочем, все это — всецело компетенция будущего Вселенского Собора. В смысле богословской законченности и церковной незыблемости можно также различать Халкидонский орос о двух природах во Христе и допустимость прибавки Filioque к Символу. Нет никакого соборного постановления, что Халкидонский орос является окончательным и не подлежащим дальнейшему развитию или истолкованию. И на самом деле, на Пятом и Шестом Соборах Халкидонское постановление было продолжено и истолковано. Наоборот, текст Символа веры признан окончательным и всякое добавление к нему объявлено недопустимым на двух Соборах — Третьем, Ефесском, и на Восьмом, каким можно считать Константинопольский собор 879-880 гг. Вот почему соглашение с монофизитами на предстоящем Вселенском Соборе представляется, по-человечески говоря, более достижимым, чем с римо-католиками.
В смысле авторитетности, наряду с Никео-Константинопольским Символом веры и догматическими постановлениями семи Вселенских Соборов, включая и догматические постановления Поместных Соборов, утвержденных на Пято-Шестом Трулльском Соборе, можно поставить только постановления Константинопольского Собора 879-880 гг., который на грядущем Вселенском Соборе должен быть провозглашен Восьмым Вселенским, так что грядущий Вселенский Собор будет по счету Девятым. К этим постановлениям следует приравнять на грядущем Вселенском Соборе постановления Константинопольских Соборов 1341-1351 гг. о Божией сущности и Ее действиях, о нетварности и благодати и о видении Божественного Света. Особенным значением среди богословских документов этих Соборов обладает Исповедание веры св. Григория Паламы на Соборе 1351 г., кратко, ясно, точно и глубоко выражающее церковную веру не только по вопросам, непосредственно рассмотренным на Соборе, но и по всем основным богословским вопросам, в том числе и об исхождении Святого Духа. Такой же общецерковный характер должен быть признан и за Исповеданием веры св. Марка Ефесского на Ферраро-Флорентийском лжесоборе, где устами св. Марка говорила вся Святая Церковь, само Православие. Можно к ним причислить и постановление Константинопольского Собора 1156-1157 гг. об Евхаристии как о жертве (а не только воспоминании), приносимой Христом по человечеству всей Св. Троице.
На этом приблизительно ограничиваются авторитетные тексты в Православной Церкви. К ним нельзя причислить так называемый Апостольский Символ, как местно-западный по происхождению, неизвестный Вселенским Соборам и недостаточный по содержанию. Нельзя также придавать авторитетный характер Символу св. Григория Неокесарийского — ценному историческому памятнику, но чисто личному, не общецерковному документу. Никео-Константинопольский Символ превзошел все эти символы по форме и содержанию и никакой другой символ не должен оспаривать его единственность в Церкви. Псевдо-Афанасиевский Символ, как тоже неизвестный Древней Церкви и как отражающий августиновскую триадологию и содержащий в своем латинском оригинале (хотя, может быть, и не изначала) учение об исхождении Святого Духа a Patre et Filio, подавно не может рассматриваться как авторитетный символический текст, и его следовало бы вообще исключить из церковных книг. Исповедания веры и догматические постановления Поместных Соборов, патриаршие послания и высказывания церковных деятелей от XV в. и до наших дней не могут быть рассматриваемы как авторитетные и обязательные символические памятники и приравниваться к постановлениям Вселенских Соборов, как не имеющие общецерковного характера по своему происхождению, как обычно невысокие по уровню богословской мысли, а часто и отрывающиеся от святоотеческого и литургического предания и как носящие следы формального, а иногда и существенного влияния римо-католического богословия. Они сохраняют свое значение только как исторические свидетельства церковного и богословского самосознания и его постоянства в главном на протяжении церковной истории. В этом смысле они заслуживают всяческого уважения и изучения. Тем более, что в основном они всегда были верны православной вере, хотя и не особенно удачно облекали ее в инославные «одеяния». Авторитет их поэтому второстепенный или вспомогательный, как выражается программа Предсобора.
Вышесказанное особенно применимо к двум символическим памятникам XVII в., приобретшим особенную известность в Русской Православной Церкви, — Православному Исповеданию Петра Могилы и Исповеданию веры патриарха Досифея (так называемому Посланию четырех патриархов). Выше их по богословскому уровню Исповедание веры Митрофана Критопуло, хотя оно и не соборный документ и имеет свои недостатки. Выше их и третья «символическая книга», как выражаются некоторые русские богословы, Пространный Катехизис митр. Филарета. Однако, при многих своих достоинствах, и он не без недостатков, и известность его по историческим условиям ограничивается одной Русской Церковью. Нет достаточных причин, чтобы возвысить его до авторитетности всеобщеобязательного символического текста.
К символическим памятникам можно прибавить богословские постановления Большого Московского Собора 1666-1667 гг., с участием Александрийского патриарха Паисия и Антиохийского Макария, о неизобразимости Бога Отца на иконах и т. д., а также постановление Константинопольского Собора 1872 г., осудившего филетизм как ересь против единства Церкви. Мы говорим о том и другом соборе только в их догматической части, независимо от осуждения старообрядцев и болгар, имевшего только историческое значение. Таковы же церковные памятники и архиерейские исповедания веры при епископских хиротониях, формулы отречения от лжеучений и исповедания веры при принятии в Православие еретиков или иноверцев. Трудности здесь состоят в том, что все эти формулы и исповедания часто менялись в истории Церкви и нет здесь единства практики между Поместными Церквами. Все эти вопросы требуют тщательного изучения. Церковь на будущем Вселенском Соборе оценит по достоинству все эти постановления и исповедания, примет или отвергнет, если что нужно, и выскажется об их церковной авторитетности. Как исторические памятники церковного предания и богословской мысли, они имеют свою ценность и значение и сейчас.
Не надо забывать, что православное вероучение выражается не только в официальных документах, символах веры, исповеданиях и соборных постановлениях, но и в церковном богослужении — в Божественной литургии прежде всего, в церковных песнопениях богослужебного круга затем. Можно без преувеличения сказать, что анафора литургий св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста по своей богословско-догматической авторитетности нисколько не уступает догматическим постановлениям Вселенских Соборов. Особенно это верно об анафоре св. Василия Великого, где все основные моменты христианского учения: творение, грехопадение, воплощение, воскресение, спасение, конечные судьбы человека — выражены так полно, ярко и глубоко. Да и троическое богословие раскрыто в ней с той же силою. И все это богословие есть плод и выражение соборной евхаристической молитвы, источника и корня нашей веры. Церковные песнопения, выбранные Церковью из творений святых отцов, тоже являются плодом и выражением общецерковной молитвы и ценными памятниками веры. Можно сказать, что они отражают православное вероучение более подлинно и глубоко, чем все схоластические исповедания веры XVII в.
Нужно также всегда сознавать, что вера наша выражается, толкуется и формулируется в творениях святых отцов в их целом. Только на основании их творений можем мы правильно понимать постановления Вселенских Соборов, из них вытекающие и ими объяснимые. Конечно, Церковь никогда не догматизировала творения святых отцов, не следовала за их отдельными богословскими мнениями, не замыкала ими развитие богословской мысли. Тем не менее Вселенские Соборы начинали свои догматические постановления словами «Последуя святым отцам», выражая тем свое убеждение, что верность им по духу есть основной признак православного богословия. При свете святоотеческого предания, верности ему не по букве, но по духу должны мы оценивать все символические памятники и тексты послесоборной эпохи и определять степень их авторитетности. Никакой абсолютный критерий здесь, впрочем, невозможен да и не нужен.
Составление и издание единого православного исповедания веры
Вопрос о составлении и издании единого православного исповедания веры является для Православия несколько новым, по крайней мере, если мы будем подчеркивать слово «единого», как это было, по-видимому, в мысли составителей программы Предсобора. В прошлом, конечно, в Послесоборную эпоху, мы имеем немало исповеданий веры. Среди них отметим прежде всего Исповедание веры св. Григория Паламы на Константинопольском Соборе 1351 г. и св. Марка Ефесского на Ферраро-Флорентийском лжесоборе 1439-1440 гг. Пользуется известностью также Исповедание веры Константинопольского патриарха Геннадия Схолария, представленное им по завоевании Константинополя султану Магомету II. Имеющее ограниченную цель — сделать христианскую веру более понятной магометанам, оно не отличается догматическою точностью и лишено богословского интереса. В послевизантийское время мы также имеем ряд исповеданий веры. Среди них наиболее известны исповедания веры (будущего) патриарха Александрийского Митрофана Критопуло (1625 г.), митрополита Петра Могилы (1640-1643 гг.), патриарха Досифея (1672 г.), Константинопольского Собора 1727 г., составленное Иерусалимским патриархом Хрисанфом. Все эти исповедания веры, составленные по конкретным случаям и в ответ на определенные богословские проблемы, не притязали, однако, быть едиными и всеобъемлющими и могущими заменить все другие. Конечно, не может быть принципиальных возражений против возможности составления и в наше время нового Исповедания веры частного и даже общего характера и одобрения его на будущем Вселенском Соборе. Церковь сохраняет и в наше время все свои благодатные дары. Дух Святой содействует ей и сейчас формулировать свое учение и избегать при этом впадать в заблуждение. Вопрос идет, однако, не о принципиальной возможности, а о целесообразности и необходимости издания в наше время такого Исповедания веры общего характера и о практической осуществимости такого начинания.
Прежде всего, нужно сказать, что «единые», то есть, так сказать, общие и всеобъемлющие исповедания веры более свойственны римо-католичеству и протестантству, нежели Православию. Как новые во многих отношениях вероисповедания, отличные от веры и учения Древней Церкви, оба эти вероисповедания — трудно сказать, какое больше — имеют потребность и жизненную необходимость в целях самосохранения формулировать свое новое вероучение в более или менее подробных исповеданиях веры. Отсюда возникли символические книги в римо-католичестве и протестантстве. В другом положении находится Православная Кафолическая Церковь. Она не только верное продолжение Древней Церкви, она есть сама Древняя Церковь в настоящее время, тождественная ей по вере и учению. По одному этому Православной Церкви менее необходимо и менее свойственно составлять новые исповедания веры, общего характера в особенности.
Невозможно, конечно, отрицать, что за последние века, со времени Вселенских Соборов, возникло в мире много новых заблуждений как среди православных, так и в окружающем их инославном, иноверном и неверующем мире. Казалось бы, откликнуться на них, определить свое отношение к ним является обязанностью Православия. Тем не менее вопрос этот более сложный, чем представляется с первого взгляда. Начать с того, что Церковь с древнейших времен избегает судить и разбирать в подробностях верования и учения, далеко от нее отстоящие, в то время как она всегда считала своим долгом высказаться и откликаться на заблуждения и отклонения, возникшие на почве самого христианства. Так, Вселенские Соборы не обсуждали и не разбирали языческие верования или философские учения, а опровергали и осуждали христианские ереси. Церковь, конечно, всецело отвергала нехристианские учения, но она считала достаточным противополагать им в положительной форме свою веру, не разбирая, официально и всецерковно по крайней мере, эти чуждые христианству верования в подробностях. Было бы неправильно возводить такой образ действия в непреложное правило, тем более, что внешние обстоятельства сейчас изменились; пример Древней Церкви все же сохраняет в общем свою силу. С другой стороны, многие заблуждения нашего времени, хотя и кажутся новыми, в действительности, однако, только возрождают под новыми именами древние ереси, уже определенные и осужденные на соборах. Наконец, интеллектуальные и духовные вопросы и нужды современного человечества столь разнообразны и многочисленны, что объять их и ответить на них в «едином» Исповедании веры представляется крайне трудным.
Нужно вообще сказать, что идея «единого» всеобъемлющего Исповедания веры несвойственна православному церковному сознанию. Стремлением все определить и точно формулировать все предметы веры нарушается исконный принцип богословской и церковной свободы в единстве и любви, так ярко выраженный в знаменитом изречении блаж. Августина: «In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas». А о том, что считали святые отцы принадлежащим к этой области свободного богословия, можно заключить из следующих слов св. Григория Богослова: «Философствуй мне о мире или о мирах… о воскресении, суде, воздаянии, страданиях Христовых, ибо в таких предметах и достигать цели не бесполезно и ошибаться безопасно. Богу же помолимся быть в этом успешным, сейчас немного, а немного позже, может быть, и более совершенным образом, в Самом Христе Иисусе». Иначе говоря, вопросы творения, искупления, последних судеб человека принадлежали для св. Григория Богослова к области богословской свободы, где «ошибаться безопасно». Это не значит, конечно, что Церковь не должна их касаться, но ей не свойственно догматически и соборно их определять. Вообще Православной Кафолической Церкви, в отличие от римо-католицизма, не свойственно издавать догматические постановления без необходимости, когда нет опасности заблуждения, ибо догмат в сознании Церкви есть более предохранение от заблуждения, указание, чего не надо мыслить о Боге, нежели положительное раскрытие учения о нем. «Православные догматы», как говорит проф. А. И. Введенский, «не суть ни путы для мысли, ни кандалы, но разве лишь предохранительные определения, которыми Церковь хочет поставить разум человеческий в надлежащую перспективу, в которой для него открывалась бы возможность беспрепятственного и безостановочного движения вперед, с исключением опасностей уклонения в сторону и на пути обманчивые».
Наконец, составление нового общего православного исповедания может послужить поводом к соблазну среди «малых сих», простых благочестивых верующих, которые могут усмотреть в самом факте его составления признание, что православное учение, как оно до сих пор существовало, было чем-то недостаточным и даже неправильным, требующим исправления. С этим нельзя не считаться, ибо, как говорится а ответе восточных патриархов папе Пию IX 1848 г., «у нас ни патриархи, ни соборы никогда не смогли ввести новшества, потому что защитником веры является само тело церковное, то есть сам народ, который хочет, чтобы вера его была вечно неизменной и единообразной вере отцов». Конечно, в данном случае это скорее психологическое препятствие, ибо речь идет не о новой вере, а о новых и дополнительных ее формулировках, что уже не раз бывало в церковной истории. Тем не менее провозглашение нового единого Исповедания веры все же может вызвать затруднения и даже расколы. Более важно то, что составление такого единого православного Исповедания веры, действительно достойного этого имени, практически трудно осуществимо. Ведь такое исповедание должно выражать всю полноту православного церковного предания, как оно выявлено у святых отцов в их полноте. Вместе с тем оно не должно быть механическим повторением ими сказанного или мозаикой святоотеческих текстов и цитат, но их творческим синтезом и переложением для нашей эпохи, «неопатристическим синтезом», как выражается известный современный православный богослов прот. Георгий Флоровский. И вот для такого синтеза, верного по духу святым отцам и вместе с тем свободного и целостного, время еще не настало. Во-первых, потому, что само изучение святых отцов, несмотря на все развитие и успехи патрологии за последние десятилетия, еще далеко не достигло степени, дающей достаточную основу и необходимый материал для синтеза. Тем более, что, как это показали происходившие за последние годы съезды патрологов, участие православных богословов в наблюдаемом сейчас возрождении патрологических наук все еще очень скромное. А основываться на результатах работ одних инославных ученых мы не можем, как бы высоко мы ни ценили их научные труды. Поэтому можно опасаться, что составление общего православного Исповедания веры окажется нашим православным богословам в настоящее время невполне по силам. Вернее, будет составлено Исповедание веры, текст которого, если не сразу, то по прошествии немногих десятилетий будет всеми ощущаться неудовлетворительным и неудачным, слишком отражающим состояние богословской мысли и науки своей эпохи с ее недостатками и односторонностями. Это не помешает ему, однако, раз он получит соборное утверждение, висеть мертвым грузом над свободной и творческой богословской мыслью и создавать для нее путы и стеснения, вместо того чтобы быть ей руководством и указателем. Дух Святой, конечно, предохранит такой соборный текст от ошибок против веры, но, поскольку в Церкви действует и человеческий фактор и Дух Святой не творит насилия над человеческой свободой, немощь человеческая неизбежно выявится в редактировании текста единого православного Исповедания веры во всей своей неприглядности.
Нам представляется поэтому, что для составления и издания единого Исповедания православной веры время еще не созрело.
Примечания:
- Обращаем внимание на то, что русский перевод этого раздела, напечатанный в «Журнале Московской Патриархии» 1961 г., № 11, стр. 25, неточен. Первые три параграфа сведены в нем в два, а именно: а) основные тексты Православной Церкви; б) тексты второстепенной важности. Тем самым исчезает различие между «относительно» и «вспомогательно» авторитетными текстами, да и само слово «авторитет» избегается. Мы сочли нужным дать буквальный, хотя и несколько неуклюжий, перевод с греческого во избежание недоразумений на будущих междуправославных встречах.
- Характерный пример — статья проф. П. П. Пономарева и В. А. Керенского «Книги символические вообще и в Русской Православной Церкви в частности» и Богословской энциклопедии, т. XII, СПб., 1911, кол. 1-107.
- Вопрос об инославных влияниях на исповедания веры XVII в. рассматривается им в его труде «Eterodoxoi epidraseis epi tas omologias tou IZ aionos»; в журнале «Nea Sion» 29 (1947) с. 40-49, 68-83, 175-186, 235-242; (1948) с. 45-50, 111-120, 167-174, 226-251, 280-288; (1949) с. 33-40; (1960) с. 1-10.
- Ioannou N. Karmire. Ta Dogmatika kai Symbolika Mnemeia tes Orthodoxou katholikes Ekklesias. En Athenais. T. I. 1952 (ekdoxis B),1960, т. II, 1953. См. рецензию на этот труд проф. прот. Георгия Флоровского в «St. Vladimir’s Seminary Quarterly» 1953. I, с. 59-61.
- Подобное мнение высказал недавно православный греческий богослов Н. Нисиотис.

Доклад, прочитанный 2 июля 1975 года на Литургическом съезде
в Свято-Сергиевском Богословском Институте в Париже
Настоящее сообщение не имеет целью проследить историческую эволюцию богослужебных форм, происхождение их особенностей у греков и русских, значение в этом процессе различных типиконов, их взаимные влияния и т. д. Я не литургист и не буду делать этого систематически. Ограничусь лишь несколькими замечаниями и наблюдениями, скорее личного характера, относительно того, как совершается Литургия и прочие богослужения в храмах греческого языка, с одной стороны, и русского с другой. Говоря же о церквах греческого языка, я не забываю, что Афон не принял константинопольской реформы 1838 г. и остался верным более древним типиконам. В настоящем исследовании меня интересует не только тот или иной текстуальный вариант или различие в чинопоследовании, но также и прежде всего, тот смысл и значение, которое одни и те же слова или один и тот же литургический момент может получить в сознании верующих, как это может сказаться на их религиозном поведении, даже если различия часто бывают основаны на недоразумениях. Для понимания и оценки этих особенностей народного благочестия «богослужебные отклонения» могут оказаться интересными.
Начнем с нескольких, скорее банальных замечаний о некоторых особенностях при совершении Божественной Литургии.
Надо однако сказать, что вообще большая часть различий между греками и русскими в ее совершении касается нашей темы лишь косвенно, поскольку различия эти находятся в молитвах, именуемых «тайными» и потому остаются неизвестными подавляющему большинству мирян и не имеют непосредственного влияния на их поведение.
Тем не менее, мы будем о них говорить так как молитвы эти составляют наиболее важную часть Литургии, а произносящее их духовенство также составляет часть народа Божия. Опуская пока то, что предшествует самой Литургии (великое Славословие у греков, Часы у русских, а также проскомидию), укажем на довольно существенное и характерное различие в Литургии оглашенных: Греки после реформы 1838 г. (кроме афонских монахов, оставшихся при старом порядке) заменили псалмы 102 («Благослови, душе моя, Господа») и 145 («Хвали, душе моя, Господа»), также как и следующие за ними Заповеди Блаженства, антифонами, т. е. краткими обращениями к Богоматери или Христу, воскресшему и славимому во святых Своих; русские же продолжают петь каждое воскресение два указанных псалма и Заповеди Блаженства. Они заменяют их антифонами только в большие праздники, или же, наоборот, в будние дни. Опущение псалмов и блаженств конечно имеет преимущество (если только это действительно можно считать преимуществом) сокращать Божественную Литургию. Однако достойно сожаления то, что Литургия оглашенных теряет таким образом свой поучительный, библейский характер, одновременно и ветхозаветный, и новозаветный, который должен был бы быть ей присущ. Подобные же соображения можно высказать и об упразднении реформой 1838 г. молитв об оглашенных.
Становится непонятным, почему эта первая часть Литургии продолжает называться «Литургией оглашенных». Отметим, что на Афоне греческие монахи продолжают молиться об оглашенных за Литургией в течении всего года.
Другой момент, на котором следует остановиться, на этот раз в Литургии верных, это херувимская песнь. Здесь сразу бросается в глаза различие в поведении: когда начинают петь эту песнь, греки имеют обыкновение садиться, тогда как русские любят становиться на колени. Затем, когда начинается великий вход со Святыми Дарами, греки встают и продолжают стоять, склонив голову и верхнюю часть тела, тогда как русские поднимаются с колен и стоят вольно (хотя и не все; некоторые наоборот кладут земной поклон. Это те, кто думает, что Святые Дары уже освящены — ересь, осужденная в Москве в XVII в.). Можно сказать, что для греков важен самый вход и поминовения, для русских же херувимская песнь.
Ничто в этой практике конечно не предписано русской Церковью; наоборот, многое сделано, особенно за последнее время, чтобы объяснить верующим, что во время херувимской стоять на коленях не полагается, в частности в воскресенье, так как дары еще не освящены. Однако все эти усилия остаются почти бесплодными, настолько сильна духовная традиция, выражающаяся в этой практике и представляющая опасность сделать из херувимской песни «мистический», «глубокий» центр Божественной Литургии в ущерб евхаристическому Канону и преложению святых Даров. Что же до греков, то их практика может быть объяснена исторически тем, что херувимская была введена в Литургию поздно, в VI-м веке, в Константинополе, и что первоначальная цель ее была в том, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся во время поминовения живых и мертвых у жертвенника перед великим входом. (Кстати, внесение херувимской песни подверглось критике современников, которые видели в ней странное новшество).
Поэтому, ввиду того, что херувимская, по происхождению своему, лишь «заполнение», понятно, что греки слушают ее сидя на стасидиях или стульях, как они обычно делают в подобных случаях.
Нечто подобное можно сказать и об одной из первых фраз евхаристического Канона. Она по-разному читается, в наше время во всяком случае, и греков и у русских: ’Ελαιον είρήνησ θυσίαν αίνέσεως, что означает «Елей мира, жертву хваления» (по-гречески) и «Милость мира, жертву хваления» (по-русски). Ясно, что в основе лежит путаница, которую можно назвать орфографической, происшедшая в греческих рукописях между двумя словами, которые в византийском греческом языке, хотя и пишутся по-разному, произносятся одинаково (хотя и с различными окончаниями έλαιον — елей и έλεοσ — милость). Подобные смешения, которые на Западе именуются «итакизмами», очень распространенное явление. Почти несомненно также, что форма έλαιον (елей) является первичной, оригинальной, тогда как έλεοσ (милость) есть ошибка, или скорее заведомое нововведение переписчика, пожелавшего здесь «углубить» текст. Мы видим здесь классический пример эволюции библейского буквального текста в текст символический и спиритуализированный. Эволюция в обратном смысле, от сложного к простому, неправдоподобна. Русские писцы и литургисты предпочли форму спиритуализированную (милость, а не елей) и приняли ее в славянской Литургии. Однако, ошибочно думать, что именно им (или вообще славянским переводчикам) принадлежит «честь» этого «углубления». Оно произошло уже у греков и доказательство тому то, что уже Николай Кавасила в своем «Толковании Литургии» (XIV век) хорошо его знает: хотя он и не цитирует буквально это место, он парафразирует его и из его парафразы явствует, что он читает именно «милость», а не «елей». Это еще подтверждается последующим развитием мысли: «Ибо мы предлагаем, — говорит Кавасила, милость Тому, Кто сказал: милости хочу, а не жертвы… Но предлагаем мы также и жертву хваления» (PG 150, 396 АБ). Важно однако, что у греков этот «спиритуализированный» вариант не удержался; они остались верны библейскому тексту, тогда как у русских версия «милость мира…» стала для многих верующих одной из вершин Литургии, великие композиторы написали для нее мелодии и это еще увеличило ее популярность у тех людей, которые ходят в церковь, чтобы слушать красивое пение.
Другой пример развития краткого текста, но на этот раз чисто богословского, мотивированного также и необходимостью дать священнослужителю время прочесть первую тайную молитву анафоры. Краткий возглас (у греков псаломщика) «Достойно и праведно» (в ответ на слова священнослужителя «благодарим Господа») заменен в русской Литургии длинной фразой, которую поет хор: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней». (Как и в случае с «милостью мира» русские здесь восприняли лишь вариант, уже существовавший в греческих рукописях, но не удержавшийся в литургической традиции). Недостаток этого богословского распространения заключается в его непоследовательности, так как ответ хора уже не соответствует точно словам священнослужителя («Благодарим Господа» — «Достойно и праведно») и заменяется учением о поклонении Святой Троице.
Но с другой стороны, ввиду того, что при краткой реплике псаломщика, у священнослужителя не остается времени на чтение первой евхаристической молитвы, у современных греков появился крайне безобразный обычай: при сослужении, второй священнослужитель прерывает первого (даже если он епископ), которому физически невозможно закончить тайную молитву во время ответа псаломщика, и громко делает возглас: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще…» (всё это, чтобы избежать паузы, которую православные не любят). К счастью, верующие, находящиеся вне алтаря, ничего этого не замечают, так как евхаристические молитвы читаются тихо.
Тоже можно сказать и вообще о всех евхаристических молитвах, но мы на этом остановимся лишь вкратце. Дело идет о вещах хорошо известных. Особенность евхаристического Канона Литургии святого Иоанна Златоуста заключается у русских в том, что в текст эпиклезы вставляется тропарь Духу Святому, взятый из шестого часа, т. е. сравнительно древний, и дополняется стихами из 50-го псалма. Снова следует сказать, что авторами этой интерполяции были не русские, так как она встречается уже в некоторых греческих богослужебных рукописях XI-го века; но получила она всеобщее распространение у русских и заняла, в сознании многих священнослужителей, место самой эпиклезы. (Многие священники, говоря об эпиклезе, имеют в виду именно эту интерполяцию. Значение ее к тому же подчеркивается драматизмом, с которым слова эти часто произносятся: с воздетыми руками, тогда как диакон, говоря стихи 50-го псалма, становится на одно колено). Всему этому нет никакого соответствия в греческой Литургии. Несомненно, что эта интерполяция (которую можно назвать «эпиклезой в эпиклезе») придает священнической духовности, которую она выражает, некоторый оттенок индивидуализма и пиэтизма, и прерывает последование евхаристического Канона. Однако в Литургии святого Иоанна Златоуста это делается не грубо и интерполяция помещена между двумя фразами, а не в середине одной. Совсем иначе и более серьёзно обстоит дело в Русской Церкви с Литургией святого Василия Великого. Здесь уже не одна, а две различных интерполяции: во-первых та же, что и в Златоустовской Литургии (тропарь Духу Святому), но с той большой разницей, что она здесь прерывает первую фразу Канона посредине, после глагола в неопределенном наклонении (аориста άναδείξαι — показати). Так, что после, этой длинной интерполяции священнослужителю почти что, приходится вернуться назад, если он не хочет потерять нить мысли. Искусственность этой интерполяции здесь гораздо яснее, чем в Литургии святого Иоанна Златоуста, откуда, она кстати и взята (она не имеет подтверждения ни в одной, греческой рукописи для Литургии святого Василия Великого). Но еще более важна вторая интерполяция μεταβαλών τώ Πνεύματι Σου τώ Άγίω — «преложив Духом Твоим Святым», введенная в славянский текст Литургии Василия Великого под влиянием текста Иоанна Златоуста. Самое меньшее, что можно здесь сказать, это следующее: 1) Эта интерполяция является недопустимой грамматической ошибкой, так как причастие μεταβαλών не может по-гречески следовать за неопределенным наклонением άναδείξαι. В Литургии святого Иоанна Златоуста оно следует за повелительным наклонением — ποίησον (сотвори). Следовало бы употребить другое неопределенное наклонение μέταβαλείν — «и преложити»; но интерполятор предпочел рабски следовать взятому им тексту. 2) Интерполяция эта излишня, так как анафора святого Василия Великого уже выразила прелагающее действие Духа Святого (призывая Его), тогда как в Златоустовской Литургии прошение было лишь о схождении Его на Дары, потому и добавляется «преложив». 3) Она создает литургическую чудовищность четырех благословений евхаристических Даров. Чтобы избежать этого, вопреки всей традиции, упраздняется третье благословение (сопровождаемое словами «излиянную за мирский живот»). Все эти искажения в русском совершении Литургии святого Василия Великого справедливо вызвали критику русских богословов. Так известный историк Церкви Болотов писал даже, что одной из первоочередных задач будущего русского собора будет изъятие из Литургии Василия Великого всех этих интерполяций, и прежде всего слов «преложив Духом Твоим Святым». С тех пор было несколько соборов, но, к сожалению, ничего не было сделано. Причина нам кажется ясной: боязнь старообрядцев, которые не преминули бы обвинить «никонианскую» Церковь в «нововведениях». Можно добавить и еще одну причину этой боязни в русской Церкви богослужебных изменений, даже вполне оправданных — это рефлекс консерватизма верующего народа; после неудачных богослужебных реформ, которые обновленцы пытались навязать русскому православию после революции, малейшее богослужебное изменение вызывает подозрение в возврате к обновленчеству. Можно сказать, что обновленцы, своими революционными изменениями богослужения, на многие десятилетия сильно затруднили всякое улучшение в совершении богослужений в русской Церкви. Дореволюционное богослужение стало для народа неприкосновенным идеалом. И тем не менее в богослужебную жизнь русского верующего народа, само собою, под воздействием Духа Святого (в чем я не сомневаюсь) вошли два важные новшества: несравненно более частое приобщение святых Тайн нежели до революции, когда причащались нормально раз в году, и всенародное пение (а не одним хором, как это было раньше) большой части Литургии и других богослужений, в частности Символа веры и Отче наш. Что же касается греков, то у них Символ веры и Отче наш читаются по разному (но никогда не поются): способом традиционным и несомненно самым древним, когда они читаются неслужащим епископом или священником, или мирянином из наиболее старых и почитаемых. Эта прекрасная практика в наше время часто заменяется другой, особенно у греков живущих на Западе: молитвы эти читаются не самым старым из присутствующих, а наоборот, мальчиком или девочкой или же читаются (но не поются) всеми присутствующими вместе. Обычай этот воспринят от Запада и характерен для экуменических собраний, но он чужд православному богослужению.
В причащении верующих можно отметить две особенности у греков и у русских. 1) Когда диакон выходит с чашей из царских врат и говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», то у современных греков он добавляет: «и любовию». Это прекрасное добавление, но оно не представляет собою древнюю богослужебную традицию, которая, верно соответствуя сакраментальной духовной жизни златоустовской Литургии, подчеркивает чувство страха перед «великим Таинством». С большой вероятностью можно сказать, что слова «и любовию» были введены в XVIII веке на Афоне сторонниками частого причащения, представителями движения «Колливад» с преподобным Никодимом во главе, а затем приняты в Константинополе типиконом 1838 г. Но они никогда не проникли в Россию. 2) С другой стороны практика русской Церкви, предписывающая мирянам прикладываться ко святой чаше после причащения, не была принята греческим народным благочестием: оно видит в этой практике присвоение мирянами того, что принадлежит исключительно священнослужителям: касаться священных сосудов. Упомянем еще одно нововведение, недавно появившееся у греков под влиянием движения «Зои» (жизнь). Священнослужители читают молитвы анафоры и освящают святые Дары на коленях. Эта богослужебная практика подверглась острой критике многих богословов (среди них протоиерея Г. Флоровского) за свой антитрадиционный характер. Мы, со своей стороны, ограничимся двумя замечаниями: а) Совершение анафоры на коленях противоречит постановлениям Первого Вселенского Собора, категорически запрещающего коленопреклонения в воскресенье, а также между Пасхой и Пятидесятницей и в другие большие праздники б) Совершать анафору на коленях физически трудно и неудобно. Если престол высок, то трудно совершать знамение благословения над Святыми Дарами и есть опасность опрокинуть Чашу. Если же он низок, то неудобно совершать стоя другие части Литургии. Но то, что неудобно и затруднительно противоречит подлинному духу богослужения, в котором всё в гармонии. И вообще желание превзойти в благочестии Отцов — претенциозно. Они не считали ни нужным, ни богоприятным совершать Евхаристию на коленях.
С богословской, вероучебной точки зрения, однако, наиболее серьёзное расхождение, выраженное в богослужебных особенностях греков и русских, наблюдается не в самой Евхаристии, а в подготовительной к ней части, в проскомидии. Я опускаю вопрос количества употребляемых просфор: будь то одна, пять, или даже семь, как у старообрядцев, это не является существенным вопросом. Более важно то, что греки, среди девяти чинов святых, воспоминаемых при вынимании частиц из просфор, на первое место, перед святым Иоанном Предтечей, ставят Архангелов Михаила и Гавриила, а также все пренебесные бесплотные силы, т. е. ангелов. Русские же совершенно не поминают ангелов на проскомидии и начинают сразу со святого Иоанна Предтечи. За этими двумя особенностями богослужебной практики стоит серьёзный богословский вопрос: относится ли искупление, спасение Кровью Христовой, крестной Его жертвой, только к человеческому роду, или же оно включает и ангелов и имеет космическое значение? Предназначено ли Таинство Тела и Крови Христовых, святая Евхаристия, также и ангелам, не имеющим тела? Наконец, распространилось ли грехопадение человека также и на ангелов, так что они имеют нужду в искуплении? Таковы вопросы, которые ставит евхаристическое поминовение ангельских сил. Некоторые русские богословы охарактеризовали эту практику как еретическую, но официально вопрос этот не обсуждался ни в одной из православных церквей. Исторически список и порядок святых, поминаемых на Литургии, установился лишь понемногу; среди греческих рукописей византийской эпохи одни включают имена ангелов, другие не включают. Однако в противоположность вышеизложенным случаям, именно греки приняли расширенную версию, содержащую имена ангелов, тогда как русские исключили их из литургической практики, может быть по вероучебным причинам. Не имея намерения разрешить здесь этот вопрос с богословской точки зрения, я хотел бы всё же сказать, что русская практика выражает более антропоцентрическое понимание спасения, тогда как греческая более подчеркивает его космический аспект. В этом смысле здесь можно провести параллель с разночтением, существующим между греческими и славянским текстом возгласа священнослужителя на утрени перед «Хвалитями»: «Яко Тя хвалят вся силы небесныя и Тебе славу воссылают» у греков, тогда как у русских говорится: «… и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Как видите, славянский текст более антропоцентричен: не «силы небесныя», а «мы» воссылаем славу Святой Троице.
Можно было бы еще долго говорить о богослужебных особенностях в других чинопоследованиях (вечерня, утреня, часы и т. д.) у греков и русских; но чтобы не слишком затягивать наше изложение, скажем лишь, что, в приходской практике во всяком случае, главное различие состоит в том, что греки совершают вечерню вечером, накануне воскресных и праздничных дней, а на следующий день начинают богослужение утреней, переходя к Литургии непосредственно после Великого Славословия и опуская часы. Русские же совершают вечером то, что они называют «всенощным бдением», т. е. вечерню и утреню вместе, что далеко не длится всю ночь. На следующий день перед Литургией читаются часы. Надо сказать, что и та и другая богослужебная практика имеет свои преимущества и свои недостатки. Греческая более естественна и ближе к типикону, поскольку вечерние богослужения совершаются вечером, а утренние утром, а не наоборот, как у русских. Но с другой стороны, поскольку вечерня по природе очень коротка, в церквах греческого языка почти никто на нее не ходит в силу православной психологии: не стоит идти в церковь на короткое богослужение; чем длиннее служба, тем больше причин на нее идти. Русская всенощная стала богослужением очень посещаемым, даже в ущерб Литургии, что достойно сожаления. Причина этому сентиментальная: люди любят молиться в полутьме при мерцании лампад и свечей. Литургия же утомляет их своей духовной интенсивностью. Следует однако сказать, что за последние десятилетия это настроение уступило обратной крайности у русских, проживающих на Западе: под влиянием инославной среды, в которой они живут, и той ложной духовности, которая сводит всё благочестие к одной Евхаристии, они очень редко приходят ко всенощной, лишая этим себя духовного и богословского богатства, содержащегося в ее песнопениях. Можно также пожалеть, что в настоящее время в частности, у греков (исключая Афонские монастыри) так мало читается Псалтирь. Так, чтение и пение 1-го псалма, «Блажен муж…», составляющего один из торжественных моментов всенощной у русских, совершенно выпал из греческой вечерни, несмотря на все предписания древних типиконов. То же можно сказать и об упразднении чтения часов в греческих приходах, кроме Великого Поста.
Великий Пост конечно занимает одно и то же центральное место в литургическом году и в духовной жизни как у греков, так и у русских. Однако, те моменты, в которых выражается народное благочестие, духовные ударения, если можно так выразиться, иногда очень различно расставлены у двух православных народов. Если взять шесть первых недель Поста (о Страстной Седмице мы будем говорить позже), то можно сказать, что у русских одним из наиболее характерных и ярких выражений духовной жизни является молитва «Господи и Владыко живота моего…» Всякий русский, даже редко бывающий в церкви, хорошо знает эту молитву, она отмечает для него начало и конец постного времени, она — то, что выделяет богослужения Великого Поста из всех других моментов богослужебного года. О большой ее популярности и глубоком влиянии на духовную жизнь свидетельствует стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…». Это была любимая молитва поэта, он глубоко умилялся, слушая как священник читает ее в церкви. А ведь Пушкин не был особенно религиозным человеком. Поэтому русский верующий будет чрезвычайно удивлен (и даже не поверит), узнав, что молитва эта фактически неизвестна огромному большинству греческого церковного народа, что в греческих церквах во время Великого Поста ее не слышно. Во избежание возможного недоразумения, я должен объясниться. Конечно, молитва эта существует в греческих богослужебных книгах, как и в русских; ее не пропускают, она хорошо известна духовенству и литургистам, но ввиду того, что она, согласно предписаний древних типиконов, читается священником тихо, «тайно», народ совершенно ее забыл, сохранив лишь сопровождающие ее земные поклоны, характерные для Великого Поста. Греческая практика читать молитву «Господи и Владыко…» «тайно» несомненно более древняя. Все типиконы, включая и русские, это предписывают (см., напр., в русском, существующем в настоящее время типиконе указание о начале Поста: «Внутренне творим», или в других местах: «в уме» или «тайно», молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко»). Русская практика читать эту молитву громко является нововведением, восходящим к XV-му или XVI-му веку; однако она сохранила в религиозном сознании народа одну из наиболее прекрасных православных молитв, которая без этого могла быть забыта, ибо если «тайное» или «умное» чтение некоторых молитв может быть духовно полезным в монастырях, где монахи хорошо знают богослужение, то в приходах, особенно больших, оно может повести к забвению и тем самым к духовному обеднению. Нечто подобное можно сказать и о великом Каноне святого Андрея Критского. Очень популярный у русских и представляющий для них один из моментов, на которых сосредоточено покаянное настроение в Великом Посту, он проходит почти незамеченным у греков. У последних наиболее популярен, любим и посещаем из всех великопостных служб (исключая Страстную Седмицу) Акафист Пресвятой Богородице. Греки не довольствуются совершением его на утрени субботы пятой недели Поста, как это предписывается всеми древними типиконами, но совершают его еще, разделив на четыре части, по пятницам четырех первых недель Великого Поста на повечерии. Здесь можно было бы усмотреть более интенсивное почитание Богоматери в великопостной практике, если бы этому не противоречили другие факты (о которых мы будем говорить в дальнейшем). Парадоксальным образом молитвы об оглашенных стали для греков характерной чертой Великого Поста, так как кроме как на Литургии Преждеосвященных Даров, они не слышат их в другое время года.
Литургия Преждеосвященных Даров имеет, разумеется, одно и то же значение в переживании Великого Поста и для греков, и для русских; народ любит это богослужение и много на нем бывает, особенно если оно совершается вечером, как полагается, хотя это «смелое новшество» и встречает еще сильное сопротивление и не очень распространено, кроме как у православных на Западе. Но если во «внешнем» совершении Литургии Преждеосвященных Даров нет особенностей, которые могли бы повлиять на духовное восприятие народа, то между русскими и греками есть серьёзные богословские различия, правда официально не формулированные, но подразумеваемые в действиях и словах священнослужителей за иконостасом. Здесь (к большому удивлению многих мирян и даже ничего не подозревающих о том священников) встает вопрос: прелагается ли на Литургии Преждеосвященных Даров (как в Литургиях Иоанна Златоуста и Василия Великого) вино в чаше в честную Кровь Господа, или же оно остается тем чем было, хотя и благословенным и освященным? Русская Литургия, со времен Петра Могилы во всяком случае, отвечает в отрицательном смысле: вино не прелагается. Это явствует из того, что священнослужитель, причастившись Тела Христова освященного раньше и погруженного в честную Кровь, также предварительно освященную на Литургии Златоуста или Василия Великого, пьет из чаши не произнося слов, которые говорятся при причащении на «полных» Литургиях. Кроме того, если он служит без диакона и должен сам потреблять Святые Дары, он не пьет из чаши. Диакон же, потребляя святые Дары в конце Литургии, вообще не пьет из Чаши, даже при причащении. Пить из Чаши считается здесь препятствием к потреблению святых Даров, как это объясняется в «Заметке относительно некоторых исправлений в совершении Литургии Преждеосвященных Даров», восходящей ко времени Петра Могилы: «Если священник служит один… он не пьет из чаши до конца Литургиии… Ибо, если вино освящено вложением частицы (святого Тела), то оно не пресуществлено в Божественную Кровь, потому что освящающие слова не были произнесены над ним, как это бывает в Литургиях святого Иоанна Златоуста и Василия Великого». Та же точка зрения выражается и в практике русской Церкви не допускать младенцев к причащению за Преждеосвященной Литургией потому, что по возрасту своему, они физически не могут проглотить частицу Тела Христова, вино же считается не преложенным в святую Кровь. Греческая же практика, как она формулирована в богослужебных книгах, хотя и не вполне ясно, предполагает как будто совсем иные богословские верования. О Литургии Преждеосвященных Даров здесь сказано кратко: «Священник причащается… Божественных Даров как в Литургии святого Иоанна Златоуста». Значит, пия из чаши, он говорит: «Преподается мне… и честная и святая Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа…» Таким образом то, что находится в чаше, почитается Кровью Христовой. Это подтверждается и практикой пить из чаши трижды, как в Литургиях Златоуста и Василия Великого, что не имело бы большого смысла если бы дело шло о вине, а не о Честной Крови. После всего этого священнослужитель потребляет Святые Дары также как в обычных Литургиях. Что же касается богословских объяснений, то их мы находим у византийских литургистов начиная с XI века: при вложении частицы Тела Христова в Чашу вино прелагается в Честную Кровь Господа через соприкосновение с Его Телом. Я не хотел бы высказываться по поводу этого серьезного богословского вопроса; произносить решение в этом различии (если оно действительно существует, так как нельзя на основании особенностей практики делать несомненные выводы относительно различий в вере) превышает мою компетенцию, поскольку ни в Византии, ни в России Церковь никогда не принимала на этот счёт соборных решений. Замечу только, что объяснение преложения вина в Кровь Христову через соприкосновение с частицей Тела представляется мне странным и неизвестным древним отцам. Что же касается «Заметки» Петра Могилы, она явно неприемлема по своей схоластической терминологии («пресуществление») и своему неправославному богословию, в котором, при освящении евхаристических Даров эпиклеза заменяется установительными словами. Издатели богослужебных книг в России это хорошо поняли: они хотя и включают в текст «Заметку» Петра Могилы, но наиболее шокирующая ее часть, которую мы частично цитировали, берется в скобки. Однако теория преложения через соприкосновение содержит подобную же погрешность: она не оставляет места эпиклезе. Что же до русской практики, она представляется более правильной, но противоречивой в том, что предписывает священнослужителю пить из чаши трижды (что не имеет особого смысла, если это не Кровь Христова?), а вместе с тем и черезмерной в том, что запрещает ему пить в случае, если он служит один.
Страстная Седмица, бесспорно являющаяся, вместе с Пасхой, вершиной всего богослужебного года, также имеет и у русских, и у греков свои наиболее впечатляющие моменты в народном благочестии и моменты эти не всегда одни и те же. У греков народ особенно любит два богослужения, которые привлекают в Страстную Неделю неисчислимые толпы народа: это стихира Пассии («Господи, яже во грехи многие впадшая жена…»), с одной стороны, и крестный ход с плащаницей вечером в Страстную Пятницу с другой. Можно сказать, что для рядового грека эти два богослужебных события составляют наиболее важные моменты всей Страстной Седмицы. Особенной любовью пользуется стихира жены грешницы, многие из мирян знают наизусть её слова и любят её петь. О ней пишут газеты в описаниях богослужений Страстной Недели. Примерно то же можно сказать и о крестном ходе с плащаницей. Ее не только обносят вокруг храма, но крестный ход идет целые версты в сопровождении тысяч верующих с зажженными свечами, поющих погребальные песнопения. У русских это бывает несколько иначе, не столько в смысле самих чинопоследований и песнопений, которые почти тождественны, сколько в отношении их места в народном благочестии. Так стихира Пассии, которая у греков занимает столь центральное место, у русских конечно тоже поется, но не привлекает особого внимания верующих, многие из которых ее даже не знают. Она просто одно из песнопений Страстной Недели, которые все прекрасны. Зато у русских приобретает особо большое значение всенощная Страстной Пятницы (фактически вечером Страстного Четверга), так называемые «Двенадцать Евангелий»; это в русском благочестии одно из наиболее любимых и наиболее посещаемых богослужений Страстной Недели. Однако, странным образом, в этом богослужении «двенадцати Евангелий», которое у греков тоже имеет большое значение, хотя и меньшее, чем у русских, тот момент, на котором сосредоточено благочестивое внимание верующих греков, — вынос креста с пением «Днесь висит на древе…». У русских же выноса креста нет (он представляется поздним нововведением) и текст «Днесь висит на древе» поется без особого выделения его в ходе службы. Для огромного большинства русских верующих излюбленным моментом является пение эксапостилария «Разбойника благоразумнаго…», при котором оперные солисты не упускают случая показать свои голоса. Здесь один из примеров того, как музыкальное исполнение может повлиять на значение богослужебного момента в народном благочестии.
Что же до Страстной Пятницы, то главным богослужением этого дня является для русских не погребение Христово (вечером), как у греков, хотя оно и очень умилительно и на него сходится множество народа (однако длинных крестных ходов не делается, а плащаница лишь обносится вокруг храма), а вынос плащаницы на вечерне в послеобеденное время. На него приходит наибольшее количество верующих и оно налагает наиболее сильный отпечаток на духовную жизнь Страстной Седмицы. Литургия Василия Великого в Страстную Субботу с чтением пятнадцати паремий (у греков, кроме Афона, сведенных к трем всё тем же типиконом 1838 г.) посещается сравнительно меньше, несмотря на всё свое богословское богатство и глубину. Русские внесли в нее богослужебное нововведение, которое можно назвать гениальным, лучшим из тех, которые они вообще ввели в богослужебной области, и придающим Литургии Страстной Субботы незабываемую драматическую напряженность: в ходе Литургии, между чтением Апостола и Евангелия (которые оба уже посвящены воскресению) тёмные облачения меняются на белые в то время как хор поёт «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех». Нет никакого сомнения в том, что это не древний обычай. Перемена облачений во время Литургии Страстной Субботы неизвестна у греков, сохранивших первоначальный порядок, по которому духовенство облачается в белое с самого начала Литургии. Причина этому проста: в древние времена Великая Суббота была днем массовых крещений. Они совершались в течение чтения паремий и обычай требовал, чтобы священнослужитель был в белом облачении совершая это таинство. Славянские рукописи XIV века свидетельствуют, что в то время русские придерживались еще старого обычая (надевали белые облачения с самого начала Литургии Страстной Субботы). По видимому в XV-м или XVI-м веке им пришла счастливая мысль отметить переменой облачений чтения о воскресении. Всем известен этот драматический момент Страстной Субботы, столь впечатляющий, хотя и сопровождающийся обычно большим беспорядком. Русские богословы углубили его значение и видят в нем символ сошествия Христа во ад, прообраз воскресения, или намек на космическое воскресение. Как бы то ни было, что чин перемены облачений настолько вкоренился в русскую богослужебную жизнь, что русский верующий был бы очень удивлен и даже шокирован, узнав, что обычай этот совсем не древний и не существует в греческих церквах.
Можно было бы говорить еще и о богослужебных особенностях у русских и греков в праздник Пасхи. Из них наиболее бросается в глаза верующего народа то, что русские читают Евангелие на нескольких языках на Литургии в пасхальную ночь (начало Евангелия от Иоанна), тогда как греки делают это на вечерне в день Пасхи (явление Христа апостолам в отсутствии Фомы). Однако, чтобы не слишком затягивать свое изложение, я перейду к рассмотрению моей темы с другой точки зрения: места почитания Богоматери в изложенных особенностях. Здесь надо прежде всего отметить новшество, недавно введенное Братством Зои под явно протестантским влиянием, довольно распространенное в приходах крупных греческих городов, но не принятое на Афоне: традиционное православное обращение — «Пресвятая Богородице, спаси нас», заменено другим, где почитание Богоматери умалено: «Пресвятая Богородице, молися о нас». Эта последняя форма, «молися о нас», конечно не еретическая; она встречается во многих молитвах к Божией Матери. Но когда ею заменяется «спаси нас», то это уже приобретает анти-богородичный оттенок. Сходная тенденция, но более ранняя, может быть усмотрена в распоряжениях типикона 1838 г., изменяющих древние церковные правила, согласно которым праздник Благовещения, ввиду своего значения в деле нашего спасения, началом («главизной») и содержанием которого он является, никогда не может быть перенесен на другую дату, даже если он совпадает со Страстной Пятницей, Субботой, или самой Пасхой. Типикон 1838 г., под предлогом, что такое совпадение создает богослужебные осложнения, превосходящие способности сельских священников, предписывает в таких случаях переносить праздник Благовещения на второй день Пасхальной Седмицы. Это нововведение, принятое в Греции, было отвергнуто афонскими монахами, которые усмотрели в этом умаление праздника Благовещения и, следовательно, умаление значения Богоматери в нашем спасении. Русская Церковь сохранила старый порядок неизменности даты Благовещения. Следует сказать, что с принятием нового календаря для неподвижных праздников при сохранении старого для Пасхи (что литургически чудовищно), вопрос этот для греков потерял свое значение, так как у них Благовещение уже не может совпадать со Страстной Седмицей и Пасхой. Однако, этим тенденциям типикона 1838 г. (если они действительно существуют) можно противопоставить то, что сам праздник Благовещения празднуется у греков более торжественно, чем у русских. Когда он падает на Великий Пост (кроме трех последних дней Страстной Недели) вся великопостная служба с земными поклонами отменяется из-за богослужения Благовещения, тогда как русские всё же кладут земные поклоны и читают покаянную молитву «Господи и Владыко…» даже в день этого великого праздника (что также литургически чудовищно). К тому же, как мы уже отмечали, чин Акафиста Пресвятой Богородице в Посту у греков имеет гораздо большее значение, чем в русских.
Замечу еще несколько различий между русскими и греками в литургических особенностях, в богослужебных и паралитургических действиях и в отношении к ним верующего народа: Так перед великим входом греческий архиерей кланяется в царских вратах народу и просит у него прощения, а затем благословляет. Этот обычай духовно необычайно прекрасен, но у русских он не сохранился. Их епископы не просят прощения у народа перед великим входом и не благословляют его. Считается, что просить прощения в этот момент — дело священников. Но с другой стороны, греческие епископы никогда не преподают благословения народу вне богослужения и ограничиваются протягиванием руки, чтобы ее целовали, благословение же считается актом литургическим, неуместным вне храма. Для русского же православного и благочестивого народа получить архиерейское благословение по окончании Литургии почти также важно, как само богослужение. Это можно заметить в современной нам России, где огромные толпы народа собираются при выходе из храмов и просят у епископа благословения. Это может быть объясняется тем, что у греков епископ сам раздает антидор и тогда ему целуют руку, что заменяет благословение, тогда как русские берут антидор сами. Наконец серьёзнейшее различие в литургическом сознании между греками и русскими выражается в том, что греки (я говорю, конечно, о греках благочестивых) всегда идут к Божественной Литургии натощак, независимо от того, будут ли они причащаться или нет, тогда как русские считают, что это нужно только при причащении; иначе же можно и позавтракать перед тем как идти к Литургии, чтобы иметь больше сил. Это не мешает им брать антидор, что считается неблагочестивым афонскими монахами.
Я хотел бы теперь сделать некоторые выводы из рассмотренного. Должен сказать, что это нелегко. Богослужебные особенности, которые мы рассмотрели, сложны и часто противоречивы. Иногда дело идет о простых обычаях безо всякого определенно значения, выражающих не более чем черты национального характера (как «почитание епископа» в русском народе). Другие факты выражают тенденции духовного характера (как, например, важное место, занимаемое у русских великим Каноном Андрея Критского) и даже богословские (известный антропоцентризм у русских в противоположность скорее космическому мировоззрению греков, «иератизм» последних). Но дело всегда идет лишь о неопределенных тенденциях, а не о различных богословских учениях, и тем более не о противоречиях. Единственное важное богословское несогласие можно было бы вывести из литургической практики поминовения ангелов на проскомидии и, следовательно, их причастности к искуплению, а также из вопроса о преложении вина в Кровь Господню на Литургии Преждеосвященных Даров. Эти вопросы требуют выяснения. Но не следует делать поспешные выводы из некоторых особенностей. Нужно также учитывать различие между сравнительно недавними плодами литургического творчества, свойственными русским и грекам, отмеченными большой красотой и богословской глубиной (длинные крестные ходы с плащанией у греков, громкое чтение молитвы «Господи и Владыко» и перемена облачений на Литургии Великой Субботы, всенародное пение Символа веры и Отче наш у русских), с одной стороны, и бессмысленными интерполяциями в анафоре Василия Великого у русских, с другой. Здесь дело идет уже не о творчестве, а об искажении, которое следовало бы как можно скорее исправить. (Отметим однако, что хотя эта интерполяция и излишня в Литургии Василия Великого, она сама по себе не является ни ложной, ни еретической). Можно сказать, что эти богослужебные особенности, будь-то древние или недавнего происхождения, удачные или неудачные, притом незначительные при сравнении с великим единством православного богослужения в целом, являют большое богословское и духовное богатство в его местных выражениях; в подчас несколько несходных формах они свидетельствуют о единстве веры Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Однако Церковь, не желая навязывать богослужебное единообразие, которое и невозможно и нежелательно, должна всё же рассматривать, выражают ли все эти местные особенности ее соборное сознание.
(Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe Occidentale, revue trimestrielle, № 89-90, 23е annee, 1er — 2e trimestres, janvier — juin 1975, Париж, стр. 71-88.)

Мне трудно отвечать на доклад профессора С. С. Верховского о кафоличности и структуре Церкви. Будучи весьма интересным и богословски значительным, этот доклад слишком мало говорит о церковном строе, а потому и не дает и материала, чтобы отвечать по этому вопросу. Единственно, что мне остается, это сделать несколько коротких замечаний по докладу профессора Верховского и по общей теме конференции. Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что сам термин «кафоличность», который в современном греческом передается как (καθολικότης) не встречается в новозаветном или святоотеческом греческом языке. Старому греческому известно лишь слово «кафолический» (καθολικός), из которого позже образовалось гораздо более абстрактное понятие кафоличности. Точнее, мы находим этот термин в святоотеческой литературе, как απας λεγόμενον, в контексте со словом μαγιστρότης, в «Церковной истории» Евсевия, где этим словом обозначается высшая финансовая должность [1]. Однако это исключение, притом с небогословским значением, столь отличным от современного словоупотребления, показывает только, что такое абстрактное понимание одного из свойств Церкви, какое выражается словом «кафоличность», было чуждо Древней Церкви. Со времени святого Игнатия Богоносца прилагательное кафолический, по-гречески καθολική, служило главным и практически единственным определением Церкви [2]. Я сознательно говорю «прилагательное», потому что вообще слово «кафолический» почти никогда не употреблялось как существительное в греческом языке как языке Восточной Церкви. Такое словоупотребление появилось на латинском Западе, где оно обозначало члена Церкви. В восточной церковно-языковой практике существуют крайне редкие исключения, когда, например, существительное «католикос» используется как титул епископов или настоятелей с особыми полномочиями (например, «патриарх-католикос» в современной Грузии), или даже финансовые должности в государстве [3]. С другой стороны, слово «православный» часто употребляется и как существительное, и как прилагательное церковными писателями, начиная с 4 столетия (Мефодий, Евсевий, Афанасий), в течение арианских споров и в «Деяниях Вселенских Соборов» [4]. Специальное существительное «православие», по-гречески ορθοδοξια, также вошло в церковное словоупотребление, тогда как слово, соответствующее термину «католицизм», производное от «кафолический», никогда не употреблялось греческими святыми отцами (выражение καθολικισμός является современным греческим неологизмом, означающим римский католицизм). Следует, однако, подчеркнуть, что до самого последнего времени Церковь никогда не характеризовалась определением «православная», но всегда называлась «кафолическая» [5]. В святоотеческой терминологии сама Церковь является кафолической, а ее вера и учение есть «православие». Хотя вера тоже иногда называется кафолической, но члены Церкви суть «православные». Поэтому кафолическая Церковь часто называется «Церковью православных»: εκκλησία των ορθοδόξων.
Эти предварительные замечания были необходимы, чтобы избежать недоразумений, с которыми часто приходится встречаться в современных дискуссиях о Церкви (особенно когда русский термин «соборность» используется — и совершенно неверно — в качестве синонима для «кафоличности»). Как мы видели, такие абстрактные понятия чужды православному преданию. Что же касается прилагательного «кафолический», внутренне присущего Церкви как ее главное свойство, мы думаем, что лучшим его определением или описанием являются слова святого Кирилла Иерусалимского в его «Катехизических беседах»: «И (Церковь) называется «кафолической», потому что она простирается по всему миру, от одного края земли до другого и учит всецелому «знанию» и включает в себя все учения, которые должны стать частью человеческого знания… и обнимает весь род человеческий… и обладает всей полнотой благодати для врачевания любого греха души или тела и обладает всеми добродетелями в слове и в деле, какие могут быть мыслимы, и всеми духовными дарами» [6].
И в следующем абзаце того же поучения святой Кирилл подчеркивает единственность этой кафолической Церкви: «Если вы придете в город, не просто спрашивайте, где находится собор, потому что все другие ереси в жалкой претензии называют свои вертепы «соборами»; и не просто спрашивайте, где находится церковь, но где находится кафолическая Церковь, потому что это истинное имя нашей святой Матери-Церкви» [7]. Можно сказать, что по воззрениям святого Кирилла Иерусалимского, который в этих словах выразил зрелое понимание Церковью ее главного свойства, «кафолический» означает:
1) универсальный, вселенский, как в географическом («все концы света»), так и качественном аспектах, обнимающий людей различных рас, культур и социальных положений;
2) обладающий полнотой истины;
3) обладающий полнотой спасительной власти, препобеждающий любой грех и любое зло;
4) обладающий полнотой святости и милости;
5) и как следствие, «кафолическая» является единственной характеристикой истинной Церкви.
Мы видим, что хотя святой Кирилл и не отрицает внешних признаков кафоличности, он особенно подчеркивает качественное достоинство — полноту истины и милости.
Современное богословие уделяет много внимания природе кафолической Церкви, причем особенно подчеркивает ее евхаристическую основу и поместный характер. В крайней форме эта так называемая «евхаристическая экклезиология», как она выражена, например, профессором Афанасьевым в его недавно вышедшей книге «Церковь Духа Святого» [8], ведет практически к отрицанию вселенского аспекта кафоличности (который подчеркивал святой Кирилл Иерусалимский) и к отрицанию иерархического строя кафолической Церкви. Говоря так, мы отнюдь не хотим отрицать положительных сторон в теории Афанасьева, достоинство которой состоит в привлечении внимания богословов к экклезиологическим проблемам, которыми долго пренебрегали. Но он неправ, когда утверждает, что Священное Писание знает лишь поместные Церкви и что идея Церкви Вселенской была впервые сформулирована святым Киприаном Карфагенским. Евхаристия действительно занимает центральное место в жизни Церкви, так же как и в духовной жизни христиан, но ее нельзя отрывать от крещения, с которым она образует единое таинство христианского посвящения и созидания Церкви как тела Христова, как это выразил образно святой апостол Павел: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.3:27). Следует также сказать, что в православном духовном предании евхаристия — это еще не все, молитва также имеет большое значение. В любом случае, трудно понять, почему евхаристическая экклезиология должна вести к теории, в которой Церковь поместная противопоставляется так называемой «вселенской экклезиологии». Евхаристия есть таинство единения, и по разуму Древней Церкви именно оно собирало поместные общины, рассеянные по миру, в одну Вселенскую Церковь. Как прекрасно выражено в Didache, «как этот преломленный хлеб был рассеян на горсти, а затем собранный, вновь образует одну массу, так да будет Церковь Твоя собрана от концов земли во Царствие Твое… Помяни, Господи, Церковь Твою… и от четырех ветров собери ее» [9]; правда, что в большинстве случаев, когда в Новом Завете упоминается Церковь, εκκλησία, там говорится о поместной Церкви, в единственном или множественном числе, географически локализованной или нет. Но трудно допустить, чтобы это всегда было так. Представляется совершенно очевидным, что когда Господь говорит: «Я… созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее» (Мф.16:18), — Он имеет в виду не частную поместную Церковь (потому что поместных Церквей просто еще не существовало), но Кафолическую Церковь как целое. То же самое можно сказать о святом апостоле Павле, когда он говорит о «Церкви Господа и Бога, которую он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28). И в Посланиях эфесянам и колоссянам, где святой Павел развивает свою экклезиологию, он говорит не о конкретной поместной Церкви. То же самое можно сказать с еще большим основанием о «Послании евреям». И уже если говорить о ссылках на Священное Писание, то можно отметить, что само название книги Афанасьева «Церковь Духа Святого» не является библейским. Оно не встречается в Новом Завете, в котором говорится только о «Церкви Христовой», или «Церкви Божией», или «Церкви Господа».
Единственный авторитет, который смог привести Афанасьев в защиту своего названия, это монтанист Тертуллиан [10].
Сознание Церковью своей вселенскости жило в ней с древнейших времен. Действительно, как могло быть иначе, если апостолы слышали от Самого Христа перед Его Вознесением: «Будете Мне свидетелями… даже до края земли» (Деян.1:8). Мы говорили уже о понимании этого вселенского аспекта в Didache. В «Пастыре» Ермы оно выражено несколько другим образом, через универсальность во времени. На свой вопрос: «Почему Церковь старая?» — Ерма получает ответ: «Потому что она была создана прежде всех вещей. По этой причине она старая, и ради нее был создан мир» [11]. Святой Игнатий Богоносец говорит о вселенском характере Кафолической Церкви еще более конкретно, связывая его с епископским строем. Он пишет эфесянам о «епископах, которые назначены по всему миру» [12]. Св. мученик Поликарп молится перед кончиной «О церквах во всем мире» [13]. И святой Ириней Лионский наиболее ярко выражает географическую и вместе с тем качественную универсальность Кафолической Церкви, единственность и многообразие, сочетающиеся в ней воедино: «Церковь, хотя и рассеянная по всему миру до крайних его пределов, получила веру свою от апостолов и их учеников… Это священство и эту веру Церковь, хотя и рассеянная по всему миру, свято хранит, как если бы она вся была в одном доме, и исповедует, если бы исповедовала едиными устами. И хотя много в мире наречий, смысл Предания остается один и тот же. Потому что одна и та же вера соблюдается и наследуется Церквами в Германии, Испании, среди кельтских племен, на Востоке, в Ливии и в центральных частях мира. Но как Солнце, создание Божие, одно и то же для всего мира, так и свет служения истине, который просвещает всех, желающих прийти к познанию истины» [14].
Наиболее серьезным дефектом «евхаристической экклезиологии», развиваемой Афанасьевым, является разрыв между таинственной [жизнью] вообще и евхаристической в частности, с одной стороны, и иерархическим строем Церкви, с другой.
Конечно, Афанасьев признает иерархию — «кто-нибудь должен возглавлять евхаристическое собрание», — но не как основное созидательное начало в Теле Церкви, заложенное Христом в лице Апостолов, преемники которых, рукоположенные ими, были епископы. Евхаристия есть несомненно центр епископской деятельности, но в то же время достоинство самой евхаристии обусловливается и удостоверяется тем, что она совершается епископом или в общении с ним. Как говорит святой Игнатий Богоносец, «да будет только та евхаристия считаться истинной, которая совершается епископом или одним из назначенных им» [15]. То же самое говорится о таинстве крещения и о церковной жизни вообще: «Незаконно крестить или совершать вечерю любви без епископа; но что он укажет, это есть свидетельство и пред Богом, что все то, что вы делаете, надежно и верно» [16]. Таким образом, епископ выступает здесь как главный критерий православия и главное звено церковного единства. Эту важность епископского чина в строе кафолической Церкви подчеркивает в своей замечательной книге доктор И. Зизиолас (Dr. I. Zizioulas) [17]. Он является убежденным сторонником евхаристической экклезиологии, но без той односторонности и экзальтации, которыми страдают труды профессора Афанасьева. Более полное, хотя и необязательно систематизированное изложение роли епископата в единстве и вселенскости Церкви можно найти в трудах святого Василия Великого, особенно в его письмах [18].
Может быть, главное достоинство евхаристической экклезиологии состоит в том, что она привлекает внимание к богословской важности понятия поместной Церкви. Поместная Церковь — это не только часть вселенской кафолической Церкви, но полное ее проявление: ее всецелое проявление, ничем не умаленное в определенном конкретном месте. Поместная Церковь это Кафолическая Церковь в определенном месте, тождественная с Кафолической Церковью Вселенской, которая существует только в своих поместных проявлениях. Но в то же время (и здесь мы сталкиваемся с богословской антиномией) поместная Церковь не тождественна с Церковью Вселенской, но отличается от нее.
Понять этот экклезиологический парадокс, может быть, поможет аналогия с тринитарным принципом. Мы имеем право на такую аналогию, поскольку жизнь Церкви есть отражение Божественной троической жизни. Единственное условие — проводить эту аналогию с осторожностью, памятуя важное различие между Божественной Жизнью, которая есть Жизнь Святой Троицы, и совокупной жизнью поместных Церквей, которых не три, а много. Держа это в памяти, мы можем сказать: так же как Божественные Лица: Отец, Сын и Дух Святой — не есть часть Святой Троицы, так же как в каждом из Них всецелое Божество проявлено полностью, так же как каждый из Них есть Истинный Бог и в то же время никто из них не есть Святая Троица и не тождественен с Нею — так же аналогичным образом полнота Кафолической Церкви проявляется во всех поместных Церквах, которые нельзя представлять себе ни как «части» Вселенской Церкви, ни как нечто, тождественное с нею. Такое отождествление можно сравнить с ересью Савелия, согласно которому «Отец», «Сын», «Дух Святой» не обладают истинной реальностью, но суть лишь простые проявления одного и того же. Как известно, здесь не остается места для Святой Троицы, все тождественно.
Проблему отношений между поместными Церквами и Церковью Вселенской, так же как между их устройством, можно прояснить, обратившись к известному утверждению святого Игнатия Богоносца, в котором термин «кафолический» был впервые использован в церковной истории: «Где епископ — там да будет и множество»; так же как «где Иисус Христос, там и Кафолическая Церковь» [19].
Эту формулу, вообще говоря, можно интерпретировать тремя различными способами. Первый взгляд можно считать традиционной римско-католической интерпретацией. Согласно ему, первая половина формулы трактуется как относящаяся к поместной Церкви (собрание), тогда как вторая половина воспринимается как относящаяся к Церкви Вселенской (Кафолическая Церковь). Таким образом, подобно тому, как Поместная Церковь имеет своей главой местного епископа, так Вселенская Кафолическая Церковь должна возглавляться по аналогии вселенским епископом. Такая интерпретация, однако, не приемлема. Она слишком увеличивает противопоставление между Поместной и Вселенской Церквами и ведет к идее вселенского епископата, никаких оснований для которой нет в словах святого Игнатия.
Вторая точка зрения принадлежит Афанасьеву. Он приводит текст следующим образом: «Где епископ (появляется), там да будет собрание людей (то есть евхаристическое собрание), потому что где Иисус Христос, там и Кафолическая Церковь» [20]. Он делает отсюда вывод, что в обеих частях формулы речь идет об одной и той же поместной Церкви, и говорится о ней как о кафолической, потому что, где собираются евхаристическое собрание и епископ, там Христос, полнота и, следовательно, Кафолическая Церковь. Соединительный союз ωστε («потому что») будто бы подтверждает отождествление предметов, о котором говорит святой Игнатий в той и другой части своей формулы. Но мы должны здесь отметить, что вся эта аргументация построена на неверном цитировании, тем более странном и неуместном у такого ученого, как профессор Афанасьев. В тексте, как засвидетельствовано во всех рукописях и зафиксировано во всех критических изданиях, не содержится слова ωστε, там сказано ωσπερ, «так же как» [21]. Различие очевидное и при этом лишающее аргумент Афанасьева всей его окончательности. Потому что святой Игнатий именно не отождествляет Поместную Церковь с Кафолической, о которой он говорит во второй части своей формулы. Союзом «так же как» он указывает на близкое сходство, это правда, но также и на различие между ними.
Третья точка зрения, которая представляется мне наиболее правильной, понимает формулу в том смысле, что так же как появление епископа среди поместного духовенства делает его Поместной Церковью с правящим епископом во главе, так аналогичным образом присутствие Христа в Церкви делает всю ее Кафолической. Как епископ является главой Поместной Церкви, так Христос есть Глава Церкви Кафолической. Другими словами, Поместная Церковь имеет видимую главу, епископа, тогда как Кафолическая Церковь в целом не имеет видимой главы. Ее главой является Сам Христос. Все это представляет собой расширенное богословское развитие формулы святого Игнатия, но, кажется, мы сохранили верность ее духу и содержанию [22].
Тесная взаимная связь Поместных Церквей друг с другом и сознание того, что в отдельности их кафоличность была бы неполной, с древнейших времен находила свое выражение в церковной практике в множественности выборщиков (по меньшей мере три епископа с согласием всех других епископов в церковной области) и посвящающих (два или три епископа, как минимум, необходимы для выбора или посвящения епископа) [23]. Такая множественность подчеркивалась уже в «Апостольском Предании» Ипполита (III в.) и предписывается первым апостольским каноном, четвертым Никейским каноном и девятым Антиохийским. Они нас учат, что в союзе с другими епископами епархия как поместное и полное проявление Кафолической Церкви может реализовать и поддерживать свою кафоличность как член (но не часть!) Тела Христова, которое есть «святая Кафолическая Церковь на всяком месте» [24], «Церкви по всему миру» [25]. Еще больше можно сказать о другом «харизматическом» установлении Кафолической Церкви: ее поместных и Вселенских соборах, начиная с Апостольского собора в Иерусалиме. С самого начала Церковь ясно сознавала, что ни один апостол, тем более ни один отдельный епископ, не имеет духовной власти решать основных вопросов веры и церковной жизни, возникающих в ходе церковной истории.
Такие вопросы могли обсуждаться и решаться только изволением Духа Святого, соборно, Кафолической Церковью в целом, или, по крайней мере, церковной областью, если рассматриваемый вопрос непосредственно не затрагивал веры, но касался лишь церковного строя. Можно сказать, что Вселенские Соборы, представляющие в церковной жизни «харизматическое», а не постоянное «нормальное» явление, созывавшиеся лишь в чрезвычайных случаях, когда нужды Церкви требовали их вмешательства, составляют существеннейший фактор в кафолическом строе Церкви. Здесь следует подчеркнуть важный момент, «Собор» предполагает личное «физическое» присутствие епископов и не может быть заменен пересчетом мнений и голосов отсутствующих иерархов, которые изложили бы свои воззрения письменно. Хотя это и не абсолютное правило (так, Римская Церковь и восточные патриархаты, находившиеся под властью мусульман, бывали представлены на Вселенских Соборах лишь немногими делегатами), но именно «физическое» присутствие, качественное, если не количественное участие епископов всей Церкви является необходимым для православного сознания условием для принятия или непринятия того или иного собора в качестве Вселенского или подлинно поместного [26]. Потому что только такой собор представляет новую духовную реальность в жизни Церкви.
В заключение хочется высказать некоторые практические соображения о кафоличности в современной жизни Православной Церкви. Наше церковное сознание страдает известной неполнотой, поскольку нет развитого богословского учения о Поместной Церкви. В этом смысле мы должны быть благодарны представителям евхаристической экклезиологии, не разделяя их крайностей, за то, что они впервые обратили внимание богословов на эту проблему [27].
Но гораздо более серьезным, опасным и реальным показателем упадка кафоличности в Православной Церкви является практическая, а не богословская, утрата сознания ею единства и вселенского призвания, происходящая из-за разделения ее на Автокефальные Церкви и повседневной замкнутости и ограниченности каждой из них, без особой связи и сотрудничества, почти вовсе без общей практической жизни и общего богословского сознания. Не так давно, слава Богу, произошли некоторые улучшения в этой области, выразившиеся в таких отрадных событиях, как Всеправославные совещания, подготовка к Всеправославному Собору и т. п. Хотя, к сожалению, даже и эти достижения обнаруживают новое отпадение к изоляционизму, разделению, отсутствию концентрированного действия, тем не менее автокефалию, представляющую собой хотя и недавний факт в истории Церкви, определенно следует считать великим положительным явлением в современной церковной жизни. Автокефалия есть современное выражение Поместной Церкви. Но не надо ее ни абсолютизировать как таковое, ни искажать в смысле новейших экклезиологических теорий «национальной автокефалии». Потому что в этих теориях автокефалия понимается уже не как административное самоуправляющееся и иерархическое единство Поместной Церкви, территориально ограниченной пределами независимого государства или обособленной области и включающей всех живущих там православных христиан, — но как Церковь людей одной национальности или языка, живущих не только в своей родной стране, но и разбросанных по миру и претендующих тем самым на всемирную национальную юрисдикцию. Очевидно, такие претензии на всемирную «универсальную юрисдикцию» коренятся в политической идеологии, так что Церковь претендует включить в пределы своей юрисдикции всех лиц одних политических убеждений, где бы они ни жили в мире. Все это представляет собой серьезные отклонения от канонического строя Православной Церкви и противоречит ее кафоличности. Говоря так, я не имею в виду миссионерской деятельности «Матери-Церкви» вне границ ее исторической автокефальной области, которая, конечно, может быть не слишком канонической (и часто противоречащей принципу одного епископа в одном месте), но которую, тем не менее, можно рассматривать как выбор наименьшего зла и даже как долг этой «Матери-Церкви». Всеправославное обсуждение этой ненормальной ситуации, не предусмотренной канонами, является нашей настоятельной задачей.
Другим насущным вопросом современности является проблема централизованной организации Православной Церкви. Как мы видели, православной экклезиологии чуждо воззрение, чтобы один епископ, кто бы он ни был, мог рассматриваться в качестве вселенской и видимой главы всей Церкви. Святой Игнатий Богоносец, как уже отмечалось, подчеркивает, что Кафолическая Церковь, в отличие от Поместной Церкви, возглавляемой местным епископом и понимаемой во вселенском аспекте, имеет своей единственной Главой только Самого Христа [28].
Однако церковные каноны и история Церкви признают различные степени почета и влияния среди Предстоятелей автокефальных Церквей и патриархатов. И было бы неверно отрицать этот исторический факт. Такие иерархические отношения между Церквами и епископами, существенно равными между собой, являются характерным свойством Православной Церкви, резко отличая ее от федерации протестантского типа (в этом последнем смысле часто понимают межцерковные отношения внутри православия сторонники «национальной автокефалии»). Исторически первенство положения и влияния принадлежало Риму, а позже — Константинополю. Опять-таки было бы неверно отрицать этот факт. Но, может быть, было бы еще хуже воспринимать историю как догму и искать указаний в Священном Писании и Богословии в подтверждение ситуации, в которой на самом деле единственными определяющими факторами были церковная практика и исторические обстоятельства. Каноны, освящающие эти отношения первенствования, отражают прежде всего именно эти факторы. Но отнюдь не с этой теоретической точки зрения поднимается сейчас проблема о централизованной церковной организации Православной Церкви. Сама жизнь и нужды православия в современном мире требуют решения этой проблемы. Действительно, в мире, где все организовано и координировано, Православная Церковь не может оставаться одна без организационного и координационного центра и надеяться при этом избегнуть поражений и ущербов. Было бы совершенно нормально, если бы в соответствии с канонами и традициями Константинопольский Патриархат осуществлял эту организующую и координирующую роль в жизни Православной Церкви как целого. Однако, к сожалению, — и мы должны сказать это со всей твердостью, хотя и с полным почтением, которое мы питаем к этой старшей Православной Церкви, — Вселенский Патриархат в действительной его организации и функционировании не может осуществлять такой центральной координирующей роли в православии без серьезных изменений сначала в его собственном строе. Говоря точнее, Константинопольский Патриархат в смысле всеправославной перспективы должен решать двойную задачу, как одна (и первая по чести) из автокефальных Православных Церквей и, во-вторых, как координационный центр Православной Церкви как целого. Как автокефальная Церковь он избирает своего собственного предстоятеля Константинопольского Патриарха, не сообразовываясь никоим образом с другими Церквами, управляется и ведет свою внутреннюю жизнь в полном соответствии со своими собственными статусами. С другой стороны, действовать как центр координации и решения в Православной Церкви как целом, представлять ее и говорить от лица ее — вообще выполнять такие всеправославные функции — возможно только, если все другие патриархаты и автокефальные Церкви имеют своих адекватных представителей в структуре Вселенского Патриархата.
Примечания:
- Евсевий. «Церковная история», 8,11,2.
- Святой Игнатий Богоносец. Смирнянам. 8,2. См. также: Г. В. Г. Лампе. Святоотеческий греческий лексикон. На слова καθολικός и εκκλησία (G. W. H. Lampe. A Patristic Greek Lexicon. Oxf., 1976).
- См.: Г. В. Г. Лампе. Святоотеческий греческий лексикон.
- См.: Г. В. Г. Лампе. Святоотеческий греческий лексикон. На слово «православный», ορθόδοξος.
- Примеры, когда Церковь называлась «православной», крайне редки в святоотеческой литературе. Я могу назвать только три: Epiph. Rescr. H (PG.41. Col.161B); Basilisc. Encycl. (PG.85. Col.2601A); Cyr. S. Vita Sabae 52 (p.144.15).
- Cyr. H. Cartech. 18.23 (PG.33. Col.1044).
- Cyr. H. Cartech. 18.26 (PG.33. Col.1048).
- Афанасьев Н. Н. Церковь Духа Святого. Париж, 1971.
- Did. 94 и 10.5.
- Афанасьев Н. Н. Церковь Духа Святого. С.1.
- Ерма. 2,4.
- Святой Игнатий Богоносец. Послание ефесянам, 3,2.
- Мученик Поликарп. 5.1.
- Ириней. Против ересей. 1.10.1-2.
- Святой Игнатий Богоносец. Смирнянам, 8,1.
- Там же, 8,2.
- Единство Церкви в Божественной Евхаристии и епископы в первых трех веках. Афины, 1965 (на греч. яз.).
- Архиепископ Василий. Экклезиология святого Василия Великого // Вестник Западно-Европейского экзархата, 1969, № 66, с.75-102.
- Святой Игнатий Богоносец. Смирнянам. 8,2.
- Афанасьев Н. Н. Кафолическая Церковь // Православная мысль, № 11, Париж, 1957, с.17-44.
- В подтверждение своего перевода Афанасьев говорит в примечании 36: «Правильность этого перевода зависит от значения слова ωστε». И ссылается при этом на авторитет Зома. Но дело именно в том, что слова, которое он хочет правильно перевести, вообще нет в тексте святого Игнатия!
- Сравнительно правильную интерпретацию этого места (Смирн.8,2) дает Г. Барди, «Богословие Церкви от святого Климента, папы Римского, до святого Иринея», Париж, 1945. с.64-65. Барди идет далее, чем юридически дозволяет текст и его язык: «Il ne s’agit pas ici d’opposer I’Eglise universelle aux conventicules dissidents, mais bien de mettre en comparaison L’Eglise universelle, dirigee par le Christ, et les Eglises locales, conduites par leurs eveques. A la premiere preside un eveque invisible: les eveques visibles qui sent a la tete des secondes ne sont que ses representants et ses deleguees».
- По этому вопросу смотри работу архимандрита Петра Л’Юилье «Число посвящающих при хиротонии епископа», Messager, 42-43 (1963), 97-111.
- Мученик Поликарп. Поучения.
- Там же. 5,1.
- Весьма интересная полемика по этому вопросу имела место между Местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом (позже патриархом) Сергием и раскольническими епископами «иосифлянского» толка. Они утверждали, что рассеянные и не могущие собираться вместе, они тем не менее, образуют «духовный собор». Митрополит Сергий отвечал, что понятие «духовного собора» неизвестно Православной Церкви и что подобный «собор» не может иметь канонического достоинства.
- Как пример такой крайности можно привести их утверждение, будто бы не только епархия, но даже и каждый приход составляют Поместную Церковь. Доктор Зизиолас решительно отрицает такой подход: «Приход сам по себе не образует евхаристического единства, но есть лишь продолжение Евхаристии епископской, вызванное практическими потребностями» (Op. cit, p.179). Приход не имеет епископа и является более поздним учреждением в истории Церкви.
- Святой Игнатий Богоносец. Смирнянам, 8,2.